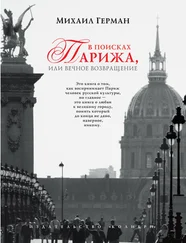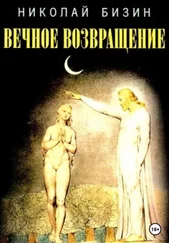Загремело, покатилось что-то.
Не рвался из схвативших многих рук Николай Акимович.
Слышал кругом шум и крики.
Не мог ничего разобрать.
Потом затихло, когда внезапно расслышал один голос:
– Чайником, значит… Вот смотрите – череп своро тил… Какой тут доктор…
Петр Андреевич Павленко (1899–1951) Родился в семье ремесленника. В 1928 году примкнул к литературной группе «Перевал», но своевременно покинул ее и весьма быстро влился в ряды главных литературных функционеров. При Сталине считался «живым классиком». По некоторым свидетельствам, принимал участие в допросе О. Мандельштама. Все говорит за то, что перед нами фигура одиозная, тем не менее рассказ Павленко «Шематоны», представленный в настоящем сборнике, заслуживает внимания как образец живого и яркого повествования.
I.
За Ростовом, на безначальственной степной станцийке, в скорый московский поезд, тайком от кондуктора, втиснулось трое проезжающих – две старухи в латаных полушубах и высокий, в шинельном пальто, старик. Пассажиров в тот час не ждали, никто не придержал стариков у входа в вагон, они прошли в закрытый конец его и скромно разместились на площадке. Кондуктор обнаружил их уже в пути и долго костил обидной вежливой руганью. На ругань и запах прелого сена, быстро распространенный вокруг себя стариками, стали выходить пассажиры. Торопясь заглянуть старикам в глаза, то ли для того, чтобы найти в них интересное беспокойство, ибо спокойному человеку не в наших нравах сочувствовать, то ли для уличения зла, – они шумно и безнаказанно зубоскалили. Перегон был долгий и старики твердо приготовились для надругательств и обид, но кондуктор больше не лаялся, он только отобрал их котомки, запер их в служебное купэ и ушел, пообещав «подкатить под штрах». Отчаявшись разговориться, разошлись по своим местам и пассажиры, и старики остались одни. Старик сидел на полу, высоко согнув ноги в коленях и опустив меж них очень спокойную, будто проволочную бороду, и упрямо, с безнадежным и покорным выражением глядел в угол, поверх старушечьих голов. Старухи привалились одна к другой боками и молча, но не с покорностью, а со злобой и раздражением шевелили сизыми, будто замлевшими губами. Дольше всех торчал на площадке молодой синеблузый пассажир в высоких сапогах с козырьками, завернутыми вниз, как собачьи уши. Он долго курил, дымя в оконное стекло и сравнивая дымы – от папиросы и тот другой, дым снежных равнин, что бежал за окном. Он ни разу не взглянул на стариков, будто их не было, стоял, курил, скучно плевал себе под ноги и, наконец, ушел, опять же ни на кого не взглянув, в вагон.
То, что пассажир этот был так благородно безразличен, так по-хорошему равнодушен к беде, в которой не мог помочь, очень понравилось старику. Старик проводил синеблузого дружелюбным и родственным взглядом. Потом вышла дама с девочкой, маленькая и пухлая, она, сама увлекаясь выдумкой, – показала дочке домового и смешно попросила старика забрать с собою непослушную девочку.
Дама была, видно, очень добрая и глупая, а девочка так смешно таращила глаза, что старик повеселел, хотел было прочмокнуть губами или тихонько взлаять собакой, чтобы познакомиться с девочкой, но вспомнил, что потом придется долго и нудно рассказывать о себе и делать несчастное лицо – и упрямо спрятал глаза и не повернулся, деревенея в страшной и искусственной неподвижности.
Поезд бежал размашистым бегом, раздувая вокруг себя ветряную зыбь, узкие острые языки ветра врывались в щели дверей и беспокойно крутились по площадке, играя с окурками. Поезд шел, как корабль, ныряя, раскачиваясь, вздрагивая, кренясь на стороны, и снаружи ветер ударял в его стены подобно волне, с металлическим шумом и скрежетом.
Ветер выл зверино, заикастым воем, так в штормы лают волны, окружая корабль. Реденькое тепло первых весенних дней порвалось, ночь разметала его на колючие ветринки и кололась ими немилосердно. В такие ночи мозг костенеет и можно бодрствовать несчитанное время. Сон не приходит в такие ночи. Уже несколько раз мелкие станции освещали площадку, как медленные молнии, но поезд бежал, не убавляя скорости.
Но вот синеблузый пассажир опять вышел на площадку. Волосы его были разметаны бессонницей, в зубах торчала желтая, в лохмы изжеванная папироса. С левого плеча его блузы на правый бок спускалась натертая ремешком дорожка. Он опять, как и в первый раз, не взглянул на стариков и равнодушно повернулся к окну. И опять равнодушие это показалось старику очень дружественным, равнодушие равного к равному.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу