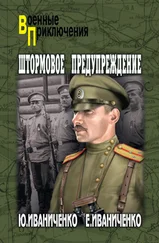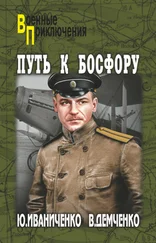1 ...6 7 8 10 11 12 ...29 Краткая историко-биографическая справка
Будущий маршал и первый президент Турции прославился во время обороны полуострова Галлиполи (Гелибоглу) от десанта англо-французских войск. Мустафа Кемаль командовал к её завершению 16-м армейским корпусом, занимавшим стратегически важный участок.
Союзники решили провести десантную операцию у входа в Дарданеллы со стороны Средиземного моря. В десантный корпус входили английские и французские пехотные дивизии, австралийские и новозеландские войска, три бригады английской морской пехоты и греческий добровольческий легион: всего около 81 тысячи человек при 178 орудиях. С моря его поддерживал союзный флот под командованием адмирала де Робека. В резерве на территории Египта находились английская и две индийские пехотные дивизии.
Турция для защиты пролива Дарданеллы создала сильную группировку войск из 20 дивизий под общим командованием германского генерала Лимана фон Сандерса. Одной из пехотных дивизий на Галлиполийском полуострове командовал полковник Мустафа Кемаль. Высадившийся под мощным артиллерийским прикрытием своих кораблей десант натолкнулся на жёсткую оборону. Несмотря на все усилия и артиллерийскую поддержку с моря, продвинуться от побережья по Галлиполийскому полуострову десантным войскам так и не удалось. За первые дни боев союзники потеряли 18 тысяч человек, продвинувшись вперед всего на километр-полтора.
Когда австралийцы, высадившиеся у мыса Каба-тепе, начали подниматься на господствующую высоту Чунук-байир, полковник Мустафа Кемаль лично повёл в рукопашную схватку пехотный батальон и своим примером увлёк за собой всю дивизию. Австралийцы, потеряв в бою 5 тысяч человек, были отброшены с высот к береговой полосе [5] Операция на Галлиполийском полуострове длилась 300 суток. За это время Великобритания потеряла 119,7 тысячи человек, Франция – 26,5, Турция – 185 тысяч человек. Англо-французский флот потерял 6 линейных кораблей, турецкий – один.
.
Вскоре Мустафа Кемаль стал первым помощником генерала Лиман фон Сандерса, проявив себя «агрессивным» боевым командиром. И в январе 1916 года жители Стамбула горячо приветствовали героя галлиполийской обороны как спасителя столицы Турции. За проявленную доблесть Мустафа Кемаль получил звание генерал-майора и титул паши и стал быстро продвигаться по служебной лестнице. С 1916 года он последовательно командовал 16-м армейским корпусом в Закавказье, затем 2-й армией на Кавказском фронте и 7-й армией на Палестинско-Сирийском фронте.
Ещё несколько шагов к краю пропасти
Они вышли к следующему полудню обратно, на пригорок, чуть возвышавшийся над дорогой. Не все, а за вычетом практически всей полуроты, сгинувшей в неумолчной перестрелке то с немцами, то с древесными призраками сумерек. Капитан Иванов, вахмистр Борщ, подпрапорщик Радецкий (как выяснилось) и ещё два десятка солдат, больше напоминавших полевой лазарет в изгнании, чем строй.
– Та-ак, – первым, естественным образом, пришёл в себя живучий хохол, глянув с пригорка вниз. – И какого, скажите на милость, чёрта мы душу рвали? – в минуту особо возвышенного состояния духа Григорий Борщ отчего-то выражался исключительно по-русски, будто прокламацию читал по слогам.
Капитан Иванов вдруг попятился под белый занавес еловых ветвей, грузнувших под снегом, кивнул вахмистру и потащил за собой оцепеневшего подпрапорщика, по-прежнему обнимавшего трёхлинейку, как единственное весло спасательной шлюпки.
Со двора «почтовой станции», правду сказать, порядком размётанной артиллерией, под дощатый навес ворот с потемневшей иконой Угодника, тянулась колонна…
Нет, уже не солдат, и даже не отступавших солдат, а, определённо, колонна военнопленных. Ни с чем иным этот «крестный ход» безропотного отчаяния не перепутаешь. Тем более что вчерашние уланы в рогатых «пикельхельм» с медными кокардами гарцевали вдоль колонны. Привычно, ленивыми окриками, поторапливали унылое шествие и немецкие пехотинцы в запоздало новомодных «штальхельм».
– Щось забагато наших, – вновь задушевно, на мамкином наречии, прошептал за спиной капитана Григорий. – Не було вчора в дивизии стилькох…
Подмороженная дорога, вьющаяся от ворот, размётанных прямой наводкой в щепу, уже превратилась в весеннее месиво льда и бурой жижи от несчётного количества сбитых сапог и драных ботинок (интендантская служба расстроилась напрочь ещё чёрт-те когда). А всё новые и новые толпы, приблизительно разобранные в шеренги по четыре, исходили из тёмно-угрюмой печали Николая-угодника.
Читать дальше
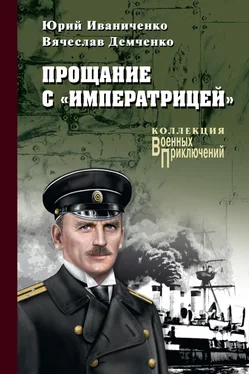
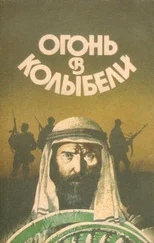
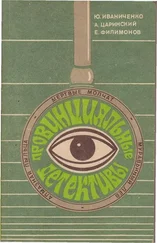

![Юрий Иваниченко - Хроника миража [сборник рассказов]](/books/386756/yurij-ivanichenko-hronika-mirazha-sbornik-rasskazov-thumb.webp)