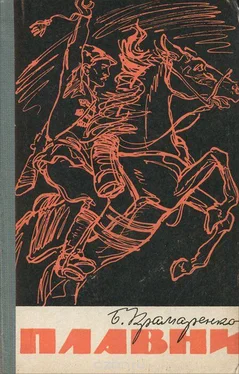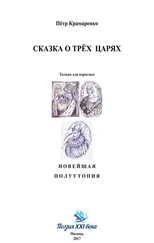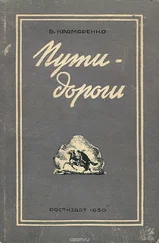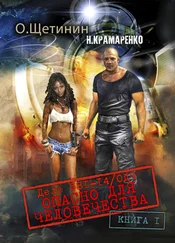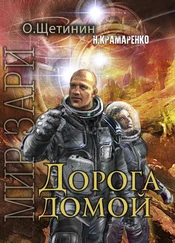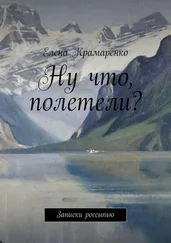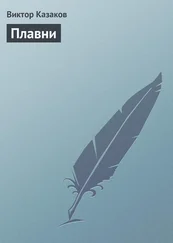Немало неправильностей и перегибов было и в действиях начальников продотрядов, нередко огульно подходивших к казачьей массе и считавших, что все казаки — либо явные, либо скрытые контрреволюционеры.
Врангелевские же эмиссары вели широкую агитацию в станицах, сеяли антисоветскую клевету, распространяли слухи о скором «освобождении» Кубани «Русской армией», старались пролезать на командные должности в красные гарнизоны и ревкомы, чтобы подорвать доверие к Советской власти. Меньшевики и эсеры, пресмыкавшиеся перед Деникиным и Врангелем, уйдя в подполье, вели подрывную работу и агитацию в пользу врагов народа…
Почему же, несмотря на все это, попытка поднять широкое восстание на Кубани позорно провалилась?
Причин к тому было много. Главная из них — политика партии и Советской власти. Приходящие на Кубань красноармейцы — казаки и иногородние — несли с собой великую правду Ленина. Многие казаки уже понимали, что Советская власть — не враг, а друг вольной Кубани. Были и такие казаки, которые просто устали от фронтов, не верили в победу Врангеля и не хотели ссориться с Советской властью.
На Кубань были посланы люди, до конца преданные партии. Силой своего авторитета и личным примером, силой убеждения они не только удержали многих колеблющихся казаков от перехода в лагерь врангелевцев, но и вырвали у офицеров сотни казаков, значительно сузив тем самым размеры подготовки к восстанию. Были и другие причины, отвращавшие казачью массу от участия в восстании. Нападение Польши на нашу страну, предательская роль Врангеля, поддержавшего своим выступлением панскую Польшу, возмутили не только многих казаков, но даже кое–кого из офицеров. Еще свежи были в памяти и те свирепые расправы, которые учиняли белые над непокорными казаками и семьями красноармейцев. Не забыто было и то, как белые, удирая из Новороссийска, в первую очередь грузили на пароходы офицеров, юнкеров, капиталистов–толстосумов с их имуществом, крупных чиновников, для многих же тысяч казаков Дона, Кубани и Терека мест на пароходах не оказалось, и они остались на берегу.
Полоса надоедливых осенних дождей сменилась погожими днями «бабьего лета». В теплом воздухе летала белая паутина. В садах, среди буро–желтой и красноватой листвы, одиноко проглядывали белые венчики цветущей вишни.
На огородах сиротливо зеленели тугие кочаны поздней капусты, а в степи, на пожелтевших, высохших стеблях, ждала уборки червонная кукуруза да печально никли к земле черные шляпки подсолнухов на безжизненных палках–стеблях.
Ночами, когда на западе тухли огненные зори, на озимой и огородах паслись пугливые зайцы, и был их мех по–осеннему густ и наряден. А из высокого бурьяна да терновых логовищ вылазили серые степные волки. Зелеными светлячками горели их голодные глаза. Волки еще на решались забираться в овчарни, но все ближе подходили к человеческому жилью, жадно нюхая теплые запахи скотных базов.
…Небольшая группа всадников с обозом из четырех подвод медленно двигалась в темноте по степному бездорожью. Это были конники Гая. Несколько часов тому назад он налетел на станцию и, вырезав малочисленную охрану, разбил два товарных вагона, стоявших на запасном пути.
Две подводы соли, бочку с керосином и — что совсем уж было удачей — два ящика леденцов вез с собой Гай. Он держал путь на отдаленный, затерянный среди терновых балок и древних курганов хутор, где помещался штаб отряда полковника Дрофы. Отряд этот состоял из двух неполных конных сотен: первой — офицерской и второй — добровольческой. Вторая сотня находилась под командованием Гая.
Далеко впереди ехал разъезд во главе с Тимкой.
Гаевцы сворачивали то влево, то вправо, огибая балки и степные курганы, переправлялись вброд через степные речушки и перед рассветом подъехали к старому саду сожженного недавно хутора.
Тимка, не убавляя рыси, повернул влево и взял направление на угол сада.
Впереди, на опушке, раздался отрывистый вой переярка. Ему сейчас же ответил протяжной, тоскующей нотой матерый волк. Тимка похлопал успокаивающе по шее вздрагивающего Котенка и перевел его на шаг. Вой переярка повторился, но на этот раз где–то слева, в степи.
Тимка бросил поводья и, подняв ладони ко рту, дважды резко крикнул по–совиному. В саду снова завыл матерый волк. На этот раз Тимка ответил ему плачущим криком схваченного совой зайца. Вой прекратился, и Тимка, обогнув сад, выехал на мягкую степную дорогу.
Читать дальше