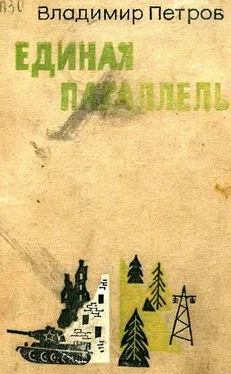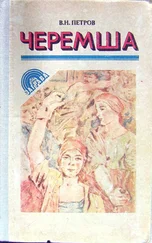— Да ничего такого не было! — отмахнулся Вахромеев. — Просто кержаки ожидали митинговые речи, чтобы, дескать, с лозунгом: «Вперед, товарищи, за мной!» А я с ними по-другому — вот и весь секрет. Иной раз другое требуется: думу вескую заложить людям в души, пускай пораскинут умом, а уж потом — решают. Верно говорю?
— Верно, Фомич. Большевистское слово должно быть не только пламенным, а и сердечным. Человеческим должно быть.
Насчет «веской думы» Вахромеев сообразил только сейчас, если уж признаться честно. Но ведь в действительности так оно и было! Не зря же мужики потом судачили весь вечер, до темноты сидели на бревнах (тот же Егорка Савушкин рассказывал).
— И вообще, — сказал Вахромеев, — народ нынче пошел другой — обходительности требует. Потому как Конституция права провозглашает. Подход нужен, Михайла Иванович, вот какое дело…
Тут он явно споткнулся, вспомнив вдруг недавнюю стычку с начальником строительства. В раздумье поскреб затылок:
— Оно, конечно, с кем и как говорить… Это тоже надо учитывать.
Сказать или не сказать Денисову про беседу с инженером Шиловым, не очень «дружелюбную» беседу? А зачем? Он, Вахромеев, не кричал, не оскорблял. Сказал все, как есть. А ежели ты не выспался и у тебя от этого дурное настроение, так не забывай про классовые интересы, про остроту политического момента. Как же иначе?
Пускай сам говорит и жалуется, коли считает себя обиженным. Тогда разберемся.
— Ты какой-то квелый, Михаила Иванович, — жалеючи сказал Вахромеев, приглядываясь к серому лицу парторга, — Плохо выглядишь, прямо хоть святых выноси. Почему в больницу не ложишься? Ведь партком решение принял. Подлечить.
Денисов слабо усмехнулся, стал ворошить бумаги на столе — бумаг у него была чертова прорва, впору их в копенки укладывать, стожить, как сено. Закопался человек в бумагах, вовсе зачах.
— В санаторий скоро поеду. Через месяц должны путевку прислать, — оправдывался Денисов. — А честно сказать — некогда мне по больницам шастать. Год дали для завершения плотины — и душа винтом. Вон и прикидывай. А тут еще текущих дел уйма. Сегодня, к примеру, митинг по подписке на Государственный заем. Ты тоже бери подписные листы — провернешь на селе. Сколько сам-то даешь?
— На два оклада, — сказал Вахромеев. — Мне меньше нельзя, пример подаю.
— Молодец! Тогда бери и действуй.
Уходя, уже у двери Вахромеев замешкался. Потом спросил:
— Слушай, а возчики на стройке нужны?
— А ты что, за кержаков беспокоишься? Устроим.
— Так у вас ведь штаты.
— А мы заместо безлошадных. Те сами виноваты: не уберегли лошадей, не жалели, пусть теперь грузчиками поработают, на барже щебенку возят. Чего улыбаешься?
— Да так… Я, понимаешь, то же самое товарищу Шилову посоветовал.
— Согласился?
— Ага. Как не согласиться, ежели советская власть советует! — подмигнул Вахромеев. Потом помедлив, уже серьезно сказал: — А знаешь, Михаил Иванович, не нравится мне этот ваш новый начальник. Не по нутру человек. Я ведь с ним только что на встречных сшибся. Ты присмотрись-ка к нему внимательнее. По-партийному присмотрись.
— Да уже, честно сказать, присматриваюсь…
— Вот, вот. А меня чутье редко обманывает. Ну прощай, парторг! Я поскакал.
Хотя «скакать» в это утро ему не придется, Гнедка оставил в конюшне по случаю кержацкого обоза. Да и не спешил он нынче со стройки — имеются кое-какие дела.
Это он так Денисову объяснил. А в действительности, никаких дел, кроме одного: ему непременно хотелось повидать Ефросинью. Всю неделю, прошедшую после той странной утренней встречи, он чувствовал себя не в своей тарелке, испытывая нечто похожее на затянувшееся похмелье. Он будто утерял, оставил впопыхах на том пахучем лапнике под лиственницей свое привычное спокойствие, и теперь его постоянно преследовали неожиданные душевные перемены: то вдруг делалось муторно и грустно, то беспричинно радостно; стыд, горечь ни с того ни с сего сменялись эдакой залихватской радостью. Прямо дьявольские качели какие-то…
Он все время ждал Фроськиного телефонного звонка, обещала ведь звонить. Не дождался. Один вечер проторчал на мосту неподалеку от рабочего общежития, но увидеть ее не удалось даже издали. А идти в барак он не хотел, не мог, просто боялся.
Если уж признаться, он и сейчас трусил. Шутка ли — встреча на виду десятков любопытных глаз… А о чем говорить? Какие теперь нужны слова после всего свершившегося под той вековой лиственницей?..
Читать дальше