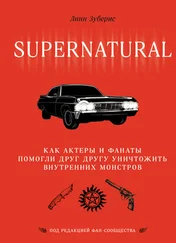1
Ранней зимой Егорка, впервые за два года, выехал с братом в Красный Яр. Конь ходко рысил по отточенной до блеска дороге, следом бежало солнце, верста за верстой оставались позади. Уткнув нос в воротник полушубка, Степан гудел:
— В Питере-то, слыхал? Временного будто и не было…. А вот в Иркутске… Понимаешь, втерлись в Совет очкарики с толстосумами — и ни в какую… — Степан добавил: — Ничего-о-о, теперь наше время!
— Зарековский… жив-здоров?
— Жив, паук. Братская управа за него горой. Одна шайка-лейка. Ну, да подберем ключи и к нему, а за компанию и к тетке Настасье. Вконец, понимаешь, загрызла маманьку. Где ни встретит — срамит. Воры да воры… Иногда зло такое возьмет — порвал бы на месте!.. — И озабоченно справился: — Не замерз?
Егорка молчал, занятый совсем другими думами. Перед ним мерцали зеленовато-серые глаза снохи Прова Захаровича, возникала вся она — ладная, с тугой грудью, неистово-нежная по ночам, замкнутая, суровая днем, на людях. Вот и прощаясь не обронила ни единой слезинки, ни словом не выдала своей печали, только всматривалась пристально, как бы запоминая каждую черточку его лица… Он даже застонал, до того вдруг тоскливо и горько стало ему на пустынной, в бесконечных извивах, дороге, под равнодушными елями.
Брат потормошил его за плечо.
— Эй, очнись. Дурное привиделось, что ли?
— О Кузьме подумал… Поправится ли, не знаю.
— Тьфу, было бы о ком! Тут буча на весь мир, а ты о колченогом старикашке, о его грыже… Забудь! Вот побываешь у Федота, иное запоешь, ей-ей. — Степан с укором скосил глаза. — Чудной ты все-таки у нас, бредешь незнамо куда, слепым кутенком… То поперву домой рвался, а то силой от Прова не вытянешь.
— Отчего ж сам третью зиму летаешь на завод? — сказал Егорка, жгуче покраснев.
— Я? — Степан помедлил немного. — Со мной себя не равняй. Я, Гоха, за такое, чтоб оно звездой горело круглые года!
— Нашел?.. Нашел, да едва ушел… Из подсобных никак не выпрыгнешь, — пробормотал Егор и с опаской подался вбок: старшой крутоват, брыклив, того и гляди… Нет, стерпел, не взвился, как бывало, только засопел угрюмо.
— Гоняли с места на место, попробуй наловчись… Но я вовсе не про то. Цепи с ног-рук сброшены к черту, вот главное!
— Знавал я и других, — сказал Егорка, — не чета кой-кому.
— То есть? — настороженно спросил Степан.
В памяти Егорки почему-то возник маленький замухрыга, встреченный на бирже труда, и его приятель как в воду опущенный… Но были еще люди-человеки, с кем пересеклись пути. Тот же вихрастый парень, тот же Игнат. Искрило в них что-то особенное, помимо доброты, а что — враз не ухватишь…
— Что молчишь? — настаивал брат.
— За дело держались, — выпалил Егорка, — о себе не трезвонили!
Степан в сердцах отвернулся.
Лошадь замедленной рысцой одолела взлобок, и дорога наконец вырвалась из тайги на обдутый недавними вьюгами простор. Справа заголубели, переливаясь в солнечных лучах, дымы Братска, впереди — за торосистой лентой реки — прорезалась под белым, в соснах, косогором тоненькая цепь красноярских изб.
— Сердце-то не щемит? — справился Степан, позабыв обиду.
— Чуть-чуть.
— Но-о-о, сивый!
2
У Малецковых по вечерам не переводились гости. То один забегал на огонек, то другой, и каждый с неизменным «что» да «почему». Когда не умещались в тесной горенке, топали гурьбой в школу, благо не препятствовала молоденькая учительница. Сидели кто где, густо дымили махрой, говорили обо всем враз.
— Раньше ты украдкой мог в люди прошмыгнуть, нынче — все для тебя, — басил Федот Малецков, рослый, ясноглазый, в шинели нараспах, с подвязанной левой рукой. — Жизнь берет за шиворот и велит — будь человеком, будь со всеми, перебарывай в себе темноту, свой медвежий нрав!
Он вдруг почему-то смолк, сдвинул темные, вразлет, брови. «Что с ним?» Егорка, сидя сбоку, проследил за его взглядом, увидел у двери Стешу и рядом с ней сонного, с раскудлаченной бороденкой Фоку.
— По-твоему, жизнь за все в ответе? — с иронией спросил Степан. — Сама выведет, куда надо? У-у-у, тогда нам и горюшка нет. Сиди с открытым ртом, жди!
— Ловок, ерш!
И оба — Степан и Федот — громко захохотали, принялись поталкивать друг друга плечом. Со скамьи привстал Силантий.
— Веселого мало, коли разобраться… Темноты много в нас, Федот прав. Но не выбьешь ли вместе с ней и любовь к землице? Вон Евлашка, погодок мой, по весне, бывало, замрет над бороздой, гадает, когда начинать пахоту, а на щеках слезы… Половчей бы надо как-то, не рывком-швырком. Воля, вот она. Всем улыбается, к самому распоследнему горемыке повернулась передом. Бери, пользуйся…
Читать дальше