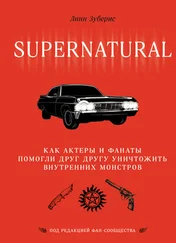Прозвенел последний звонок, и ученики гурьбой высыпали на улицу. Шагая обок с Егоркой, по макушку закутанным в отцовский зипун, Мишка Зарековский зло оглядывался на школу, сипел:
— Кляузница она, папаня говорил… Пишет в губернию и в уезд, жалуется. Мол, не отвели теплого угла, то да се. А что мы ей — кумовья? Сама приперлась, никто не звал!
— Книжку почитать не дашь? Ту, в картинках? — сказал Егорка, выстукивая зубами от каленой декабрьской стужи.
— Бери, пользуйся моей добротой. Да только не запачкай, у вас, брагинских, это скоро! — смилостивился Мишка и расстегнул борчатку, достал из-за ременного пояса книгу. — А теперь — приказ: перекусишь, беги на поскотину. Будем пулять по снегирям.
— Л-л-ладно… — ответил Егор.
Поодаль, у Стешиного заплота, его ждал сумрачный Васька Малецков.
— На реку не собираешься? Тычки я давно не проверял.
— Нет. Мишка звал на поскотину. Ружье принесет, во как!
— С разбором дружбу водишь. Куда нам до Зарековских, — обиженно сказал Васька и махнул рукой.
5
Егор бегом влетел в избу, затоптался у печи: «Ух, и мороз!» А носом чуял — сварила маманька сусло, и не простое, а с черемухой. Она еще с лета, про запас, насушила и намолола целый кошель молодого хлеба, долго берегла и вот — не удержалась… Но где она сама, и отчего так тихо в горенке?
Он сунулся в чулан, удивленно заморгал. Отец и мать сидели на скамье: она о чем-то задумалась глубоко, — так часто бывало после слез, — он с виноватым видом гладил ее худенькую руку.
— Мам! — крикнул Егор. — Дай борща, а потом я уроки живо сделаю. А потом…
Терентий Иванович грузно встал, покивал сыну.
— Вот что, Гошка. Придется тебе ехать в Вихоревку, до Прова Захаровича. Завтра и отправишься, вместе со Степаном. Завезет по дороге на Старо-Николаевский.
— Завтра? А… учеба?
— С ней надо немного подождать, помочь маманьке. Вас пятеро, каждый есть просит, а она одна. От меня какая польза? — Отец двинул кадыком, словно проглотил сухой комок. — Поробишь полгода, а там и в школу сызнова, с божьей помощью.
В уши Егорке надавила тишина. Он прислонился к бревенчатой стене, вытолкнул запоздалое:
— А я пятерку сегодня получил…
В брагинской избе не ложились допоздна. Копошились на полатях Венька с Пронькой и Минькой, старшие сидели вокруг стола, прикидывали, у кого бы разжиться на время валенками и полушубком.
— Попросим у Федота, и дело с концом. Он пока щеголяет в солдатской справе, — решил Степан, занятый починкой прохудившегося отцовского ичига.
— А примет ли Пров-то? — Терентий Иванович с сомненьем подергал полуседой ус.
— Сам заговорил о братишке, я его за язык не тянул…
— Мало теперь таких, с голубиной душой, — вздохнула мать и на мгновенье приостановила веретено, засмотрелась на лампу.
— Жаль мне его… — обронил Брагин-старший.
— Кого?
— Да Прова, кого ж еще… Не заладилась судьба. А какой был плясун в молодости, какой певун…
— Ни хрена себе, обделенный! — хохотнул Степан, со свистом протаскивая дратву. — Что ж, тогда и Зарековских, и тетку Настасью пожалеть надо, за компанию?
— Ну, нет. Они знают свое место.
— А Пров не знает, разнесчастный человек?
— То-то и есть.
1
На дворе еще держалась темень, когда жена Прова Захаровича зашла в пристройку, где ночевали работники.
— Эй, Кузьма, вставай, коней поить надо, — сказала она с одышкой.
— Пусть Егорка, он помоложе… — пробормотал работник и повернулся к стене.
— Да проснись же, антихрист! — она с силой толкнула его под ребро.
— Ох! — Кузьма сел, стал чесаться: скреб черными ногтями затылок, потом живот, потом спину меж лопатками.
— Ну, кончил ай нет? — вышла из себя хозяйка. Работник нашарил в полутьме портянки, принялся медленно, с раздирающей челюсти зевотой обуваться. И внезапно вытянул сонного Егорку ичигом по спине. Тот вскочил как ужаленный.
— Все-таки разбудил, окаянная твоя душа! — хозяйка всплеснула руками, в испуге покосилась на дверь. — Провушка опять сердиться будет… Ну, ладно, ладно. Скотина изошлась криком, да и сено до сих пор в возах, надо б сметать в зарод. С богом!
— Досыпай за нас! — бросил вдогонку ей Кузьма.
Над зубчатой линией тайги всплыло солнце, заискрилось на рыхлом, взявшемся за ночь ледком снегу. С крыш зазвенела робкая капель.
Возы убывали туго. С Егоркой творилось что-то странное: вилы, всегда покорные ему, вывертывались из рук, глаза все сильнее заволакивало горячей пеленой. Кузьма надсадил голос, подгоняя его, орал, в нетерпении сучил кулаками, но вот умотался и он.
Читать дальше