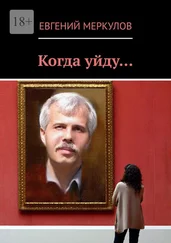— Гы-гы-главное целприцел, — говорил лейтенант, — заикаясь на одних и слитно произнося другие слова. — Ко-ко-ко-лесо к черту, а при-при-прицелцел. На-на-на-емся, возьму пехотинцев кы-кы-кстанинам, и — и — и мы такой фе-фе- фе-ерверк им у-у-у-строим…
— Будь спок! — подтвердил заряжающий. Заряжающий выскреб чугун и вытер его коркой хлеба. — Чики-брики! Разрешите быть свободным?
— Бу-бу-будь. В радиусе сы-сы-сы-стометров от пушки.
Заряжающий встал, спрятал ложку за голенище и отдал честь. — Как след! К чему радиусы? Кину минут полтораста — и будет Вася. Если что, я под пушкой.
— У-у-у-меня только термитных с-с-сто сорокшесть ш-ш-шесть ш-ш-шштук! — похвалился лейтенант.
Спать было хорошо: в животе было тепло от шнапса и плова, от угасавшего костра шло тепло к боку, а спину грело солнце. «Надо было спать больше в Москве, — подумал Игорь сквозь дрему. — Но почему-то там спать не хотелось, и нельзя же спать про запас. Верблюд может есть и пить про запас, но кто может про запас спать?»
Летчик тоже спал в своем кругу, уронив голову на грудь. Или ему было неудобно спать или болела нога и та «срамная» рана — он морщился во сне и стонал. Никольский спал, положив голову на бедро Батракову, а Батраков, — спрятав лицо в локтях. Батраков всегда так спал — на груди, спрятав лицо в локтях, как будто прислушиваясь к земле.
Странный это был сон. Тишины вокруг них не было. И над ними, и в стороне от них пролетали самолеты. Где-то далеко рвались и бомбы, и снаряды. Иногда ветер приносил и слабый звук пулеметов. Но все это их сейчас не касалось. Слыша все, они спали, как спят в лесу звери, — одновременно глубоко и чутко.
Когда ротный их нашел, они уже проспали час.
— Все к старшине!
Летчик, наблюдая, как они собираются, вдруг потребовал:
— Пусть они захватят меня. Что я тут один?..
— Хотите ко мне на КП? — спросил ротный.
— Нет. Я с ними.
— Дело ваше, — сказал ротный. — Ну-ка, помогите этому соколу.
Летчика они перебросили к цеху. Там он выбрал себе позицию, и они поставили ему пулемет. Песковой прикатил покрышку, чтобы в спокойные минуты летчик мог сидеть.
Старшина заставил их собирать оружие. Они складывали на плащ-палатки наши и немецкие автоматы, боеприпасы и вынимали из карманов убитых санпакеты, а старшина у наших вынимал бумаги, свинчивал ордена, отстегивал медали и искал пластмассовые патрончики с адресами.
Игорь и Никольский нагрузили на плащ-палатку уже столько, что тяжело было таскать.
— Еще у тех — и хватит — махнул им старшина. — Главное — санпакеты!
Они перетащили плащ-палатку к ближнему из четырех эсэсовцев, которые лежали в двадцати шагах от командира второго взвода. У командира взвода было несколько штыковых ран.
— Ну-ка. — Никольский наклонился над эсэсовцем, но вместо санпакета достал из нагрудного кармана пачку документов и писем. Ветер шевелил сухие светлые волосы немца, и от этого казалось, что немец еще живой.
Вся пачка бумаг немца была пробита пулей. Разбилось и зеркало-книжечка, но куски его, приклеенные к картону, не рассыпались. На внутренней крышке зеркала была приклеена цветная фотография девушки. Девушка в шляпке с лентой смотрела с карточки голубыми глазами. У девушки был маленький рот, румянец и густые брови. Фотоаппарат щелкнул тогда, когда девушка только хотела улыбнуться, улыбка лишь начиналась, улыбались еще одни глаза. Девушка была красивой. Пуля пробила фотографию сбоку от шеи девушки и не повредила ее.
— Улыбаемся, Гретхен? — спросил девушку Никольский и закрыл зеркало. Нижним в пачке был фашистский партбилет. На его обложке был такой же орел со свастикой в когтях, как у немца на мундире, и надпись — «National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei». Партбилет подмок от крови, особенно возле дырки от пули.
— V, мерзавцы! Это еще цветочки. Ягодки для вас впереди! Вас и зарывать в нашу землю гадко! — Никольский говорил это с омерзением. Лицо его изменилось — на лице было выражение гадливости, как если бы он смотрел на что-то отвратительное — на змею или жабу, нет, не на них, потому что змея вызывает страх, а жаба заставляет вспомнить, что она полезна — ест комаров, и потом еще она напоминает, что была царевна-лягушка. Никольский смотрел на немцев с таким видом, как он смотрел бы на мокриц.
— Нордическая раса!
Никольский ненавидел фрицев куда больше, чем их ненавидел Батраков. Никольский говорил: «Похотливые обжоры. Жрут свинину с капустой и воображают себя великой нацией. Сказано — убивай, и он будет убивать. Прикажут — не тронь, и он не тронет. Был бы закон, приказ! Поэтому-то все они и побежали за Гитлером, поэтому-то они и не знают, как выслужиться перед ним. Они готовы жрать его кал, только бы доказать верноподданничество. Но каждая их пуля — это семя ненависти к Германии. Они сами виноваты, что над их народом нависло проклятие. Кончится война, но и через двадцать поколений слово „немец“ будет напоминать слово „фашист“, как Каин напоминает — „убийца“, а Иуда — „предатель“».
Читать дальше




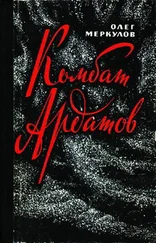
![Олег Чечин - Ради тебя, Ленинград! [Из летописи «Дороги жизни»]](/books/417792/oleg-chechin-radi-tebya-leningrad-iz-letopisi-dor-thumb.webp)