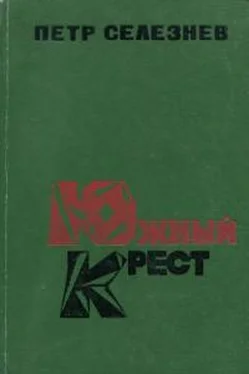Забелин взял записку. Руки у него дрожали. Буквы неровные, крупные. Но писала Нина! Это она писала, она!
«Георгий, я всегда любила только тебя. Одного тебя…»
Забелин услышал голос Жердина:
— Поезжайте. Отпускное свидетельство заготовлено, машина заправлена.
Забелин поднял голову, посмотрел на генерала прямо и невидяще:
— Если она умрет, я не переживу.
Сказал тихо, словно пообещал самому себе.
Жердин сердито посмотрел на Забелина:
— Это еще что такое? Я спрашиваю — что такое? У неженатого капитана Веригина появилась вдруг жена, и он пишет рапорты, просится на левый берег. У полкового комиссара ранена жена, и он заявляет… Я спрашиваю: что это такое?
Жердин вдруг увидел бледное лицо полковника Забелина, растерянный взгляд, капельки пота на лбу и беспокойные руки.
— Извините, Георгий Александрович, я, должно быть, не все знаю.
— Да, да, — торопливо сказал Забелин. — Я вам все расскажу. Вернусь и расскажу. Сейчас, простите, не могу.
И они пошли.
Место было открытое, а траншея мелкая. Но никто не пригнулся. Потому что командующий шел не пригибаясь.
Были те минуты, когда нет никого и ничего, нет тебя самого, а есть лишь противник, только немцы, и надо дойти, дорваться до рукопашной. Нету мыслей ни о жизни, ни о смерти, нет ни дома, ни семьи, ни друзей… Лишь чье-то залитое кровью лицо, чей-то предсмертный, пропитанный ужасом крик, матерщина и стон. И чужой пулемет. Очередь железная, неумолимая, длинная.
Смерть над самой головой.
Черное небо и черный снег. Красная пелена перед глазами и чей-то распяленный криком рот:
— В ата-аку-у!..
Чьи-то свирепые глаза, разорванный полушубок, блестящие, отполированные подошвы сапог, надрывное тяжелое дыхание…
— Впере-ед!
Но неведомая сила, которой нет названия, шибает на землю.
И небо черное, и снег… Все далекое и все чужое. Потому что нечем дышать. Лишь руки свои, красные от крови.
Своя кровь, чужая ли?
Но уже было вот так: не мог разобрать — чья кровь. Только когда это было: под Харьковом, на Дону, в Сталинграде?
Блеснуло, обожгло: Сталинград! Это его, Мишкин, город. Немцы уцепились за последние камни. Сдыхают… И убивают.
Сволочи!
И все пропало: нет ни черного, ни красного, ни шквального пулеметного огня. Только решимость добежать.
— Впере-ед!
Мишка видит, как мелькают подошвы сапог. Ему кажется, главное — догнать бойца. Обязательно догонит!
Только нет уже ни бойца, ни сапог. Не мелькают подошвы.
Сам он — лежит.
Мишка слышит, как работают вперехлест немецкие пулеметы, как из камней, из подвального окна рвется трепетный синий огонь. Прямо перед собой видит залитое кровью лицо.
— Товарищ старший лейтенант!
У бойца пробита каска, кровь торопится, капает с подбородка.
— Товарищ старший лейтенант, документы в левом кармане.
Голова упала. Боец неловко дернулся, словно хотел поудобнее лечь, и затих.
«А шел хорошо, — подумал Агарков. — Шел молодцом». Подумал холодно и трезво. Было жаль, что перестали мелькать подошвы сапог. Михаил не угадал бойца, не знал, кто жив, а кого уже нет; в эту или в следующую минуту упадет сам. И было ему сейчас все равно… Может, привычка видеть смерть сделала его нечувствительным, суровым, безбоязненным, — но старший лейтенант Агарков лишь подумал, что опять не дойдут и опять комбат Веригин будет глядеть на него в упор… А он станет докладывать в третий раз…
Площадь — вот она!.. Через развалины Мишка видит овальный фасад огромного здания. Универмаг. Самый центр, что ни на есть — пятак.
Ишь, сволочи!..
Не займи Паулюс лучшее в городе здание, кажется, не свирепел бы Мишка вот так. В этом магазине он купил себе рубашку ровно за месяц до войны. Кремовая, в полоску. Замечательная рубашка. Вот только носить не пришлось. Надел всего один раз. А теперь — немцы!
Кто-то дергает, тянет Мишку за рукав:
— Товарищ старший лейтенант! Приказано закрепиться на этом рубеже. Там командир полка и командир дивизии. Товарищ старший лейтенант!
Агарков слышит немецкие пулеметы отчетливо, ясно: они торопятся, спешат. Вон убитый и вон убитый. Лежат его, Михаила Агаркова, бойцы. А ему приказывают остановиться!..
Мины рвались, пыхали реденько, а пулеметы полосовали, жгли без остановки, они то разбегались, мели свинцом размашисто и широко, то направляли огонь в одно место, в него, Михаила.
Были мгновения — казалось, в него.
Пули цедят возле самого уха коротко и смертно, не дают шевельнуться. Настильный огонь прижал роту к земле. Весь батальон… Ему, старшему лейтенанту Агаркову, остановиться на этом вот рубеже… А какой такой рубеж? Отойти на исходную?
Читать дальше