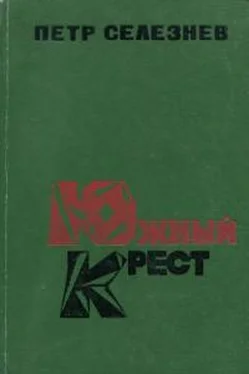— Подтянулись, едрена-вошь.
Кто-то вздохнул:
— Некуда тянуться-то…
Зарево над горизонтом то ширилось и подымалось, то пропадало. То возникал и разрастался, то осаживался и глох далекий орудийный гул.
Может, и вправду обходят?..
Ездовой сидел на передке сгорбившись, понукал коней простуженным голосом и безразлично думал, что вот идет в темноте множество людей, и никто не знает, куда идет. Никто не знает его, Мишку Грехова из-под Севска. Тимофея Клыкова нынче убило. И Саньку Камнева убило. У него, у Грехова Мишки, есть мать и сестренка Любка. Они думают о нем и ждут писем. Мишка знает: думают, ждут. А вот сотни людей, которые месят ботинками и сапогами грязь, не знают его и не думают о нем. И он не думает о них. А ведь у них тоже есть дом и семья, и там, дома, с нетерпением и страхом думают о каждом. Надеются, что они вернутся с войны живыми. И о тех думают, кого нынче закопали. Иль просто оставили… А те, что шагают сейчас под дождем, в темноте, завтра, может, упадут и уж больше не встанут… Дома получат страшный листок, будут плакать и убиваться и еще какое-то время, не веря никому и ничему, станут говорить о нем как о живом, будут ждать и теплить себя надеждой, что все — неправда, Миша вернется, заговорит, засмеется и сядет за стол… Но он не вернется, не придет. Помнить его будут долго, а говорить о нем станут все реже… Потом назовут только при случае, кстати… Скажут: «Нашего убили в марте сорок второго». Где? Под Изюмом где-то. Деревня есть… Чудное такое название, сразу не выговоришь. Все помнилось, да вот — замстило. И тут же заговорят о делах, о богатой свадьбе в соседнем колхозе, что у Марьи народилось сразу трое и все, слава богу, живы-здоровы. А кум Митрофан купил породистую телку…
Купил или не купил?
Мишка передернул плечами: фу-ты, дьявол…
Марья в их селе действительно родила тройню в позапрошлом году, а Митрофан купил холмогорского телка… Надо же — лезет в голову…
Из темноты крикнули:
— Грехов! Ездовой Грехов!
Мишка слышал, но не отозвался: идите вы под такую мать! Третьего все равно не положишь.
Понукнул коней, матюкнулся: кто-нибудь дома сидит теперь…
По праздникам будут говорить громкие речи и хвастать достижениями, а под конец помянут тех, кого нет, скажут о них хорошие слова. Что геройски воевали и геройски погибли. Но скажут совсем не так и совсем не то. Потому что никто из тех, кто станет говорить, не дрался в этом вот бою, не шел потом через ночь по колено в грязи, под дождем, неизвестно куда.
Мишка вдруг сообразил, что думает о себе как о мертвом. Без содрогания и страха. Просто думает. Потому что сжаться в комок, не выпускать тепло и думать о чем-нибудь лучше, чем пялиться в дождевую темень.
Может, и не убьют. Вернется Мишка домой с орденами, с треугольничками на петлицах. Петлицы будут черные, а на них золотые танки.
До лейтенанта Мишкины мысли не доходили, а старшиной — почему бы нет? И почему не быть танкистом?.. Он окончил семь классов и выучился на тракториста-дизелиста. Взяли его в танкисты… А машин не оказалось, и сделался Мишка ездовым. Может, вспомнят про него и заберут. Покажут — сумеет. И вот тогда держись! Тогда он вернется домой с орденами, на него станут смотреть и завидовать. Только — чему завидовать? Ведь люди не будут знать ни этого жуткого дня, ни этой вот ночи. Завидовать и восторгаться подвигами будут люди, которые не видели войны, и скажут о ней совсем не так.
Конечно, не так.
На душе у Мишки пусто. Помереть не страшно, дожить до старшины, до орденов — несбыточно далеко: убьют сто раз. И еще раз. Но думать все-таки лучше. Хоть о чем-нибудь.
Послышался глухой и прерывистый гул самолета. Он был высоко и никому не страшен. Да едва ли кто-нибудь из тех, кто с великим трудом шагал по размытой, разухабленной дороге, мог чего-нибудь испугаться.
Мишка вдруг увидел конские крупы и солдат, похожих на смертельно усталых богомольцев. Те же согбенные фигуры, те же котомки за плечами… Шапчонки натянуты на самые уши. Только батожки торчат кверху. Разбитый грузовик на обочине дороги, лошади, солдаты — все проступило из темноты, обрело свою форму. Двое под руки вели раненого, шея и голова у того были забинтованы… Мишка увидел даже дождевую кисею: немец повесил «фонарь».
Все понимали, что немец зря это сделал, только потратился, потому что ничего не увидит.
Небо низкое, набрякшее, и на нем — мутное пятно, словно пробивалась полная луна.
Рядом кто-то беззлобно сказал:
Читать дальше