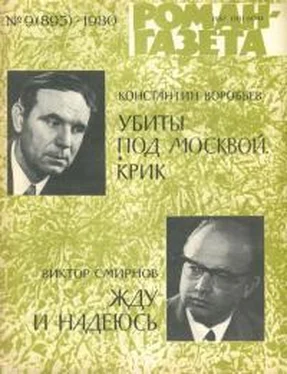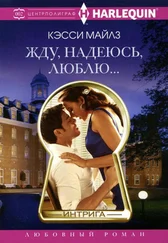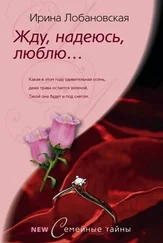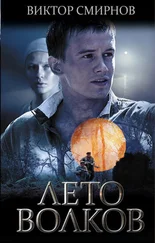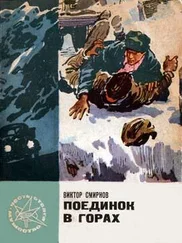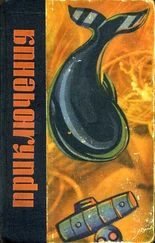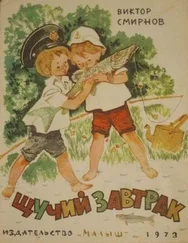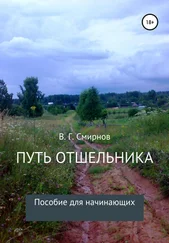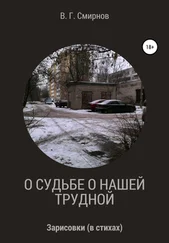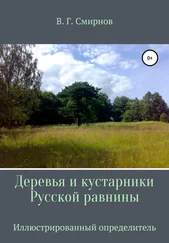Случалось, отец выводил их в город, и они шли следом, в затаенном трепете обожания и гордости. И отец, влюбленный в Киев, показывал им дома, построенные Городецким, тем Городецким, которого отец (о! о!) видел, когда был мальчишкой, караимскую кенасу — молельню в восточных завитушках, явившуюся из «тысячи и одной ночи» и ставшую кинотеатром, высокий, очень высокий доходный «замок» Ричарда Львиное Сердце на кривом Андреевском спуске, который стекал к Подолу ручьем из булыжников, и таинственный, головокружительный, манящий дом с морскими чудищами на обрыве за театром Франко, за плакучими вербами, и музей с дремлющими львами, стерегущими улицу, которая вела в кривом и веселом подъеме к загадочной, пещерной, монашеской Лавре. Отец открывал перед ними город бережно и неспешно, как старую шкатулку с фотографиями и семейными реликвиями, и они млели, слушая его, но все же оставались сыновьями хуторской Данки и вдруг не выдерживали, и тогда отец останавливался, глядя на них изумленно из-под напущенных век, как будто впервые увидев их белые отглаженные рубахи из бумазейки, их красные галстуки, их розовощекие круглые хулиганские лица с щедро подаренными матерью конопушками; строго растянув рот, он слушал их уличную бойкую болтовню на киевском неподражаемом суржике [17] С у р ж и к — букв. смешанная ржаная и пшеничная мука, иносказательно — смешанная русско-украинская речь.
— языке окраин. «Як це в замке князь Урусов жил — один на шесть этажей?..» — «Уверх-униз бигав?..»— «Робить нема чого было, вот и бегал…» — «Чому в кенасе один бог, а в церкви — другой?..» — «Тому что его никто не видел…» — «А я в кенасу хочу, там „Путевку в жизнь“ показывают».
В случайном соседском шепотке, в быстром обороте голов на Прорезной или на Крещатике, где узнавали отца какие-то люди в затертых пиджачках со следами споротых чиновничьих пуговиц, во вздохах заезжей тетки в строгом пикейном воротничке они читали, угадывали, ловили: а… Дана… не ровня, не чета, не одного куста ягодка, не одного поля травка… окружили, заездили, посадили на шею… ах, затуркали, испортили жизнь, пригнули к земле, опростили, укатали… а был, был, был… И они, маленькие Доминиани, конопушные кукушечьи детки, подброшенные революцией на Лукьяновку, щурились, отводили глаза, чувствуя смутную свою и материнскую вину. Отец, о!.. А мать мыла полы, подоткнув длинную юбку, мать пела, как будто не замечая дующего отовсюду разлучительного сквознячка, мать легко мирилась со своей ролью и, застегивая на отце накрахмаленный ворот, отправляя его на школьную службу, смотрела снизу вверх просто и ясно, не желая ни о чем задумываться и принимая все как есть. Она мыла полы и никогда ни на что не жаловалась, как будто была уверена в их общем бессмертии и вечном союзе, она вытирала пыль с отцовских книг и старых портретов и пела, она пела и катала отстиранное белье, намотанное на качалку, длинным зубчатым рубелем.
И только потом, чуть позже, смутно — а еще позже, уже в лесах, ясно и определенно — открылось Шурке то, что сумела сделать мать в своей незаметной, безостановочной мельтешне, в стуке рубеля и старой зингеровской машинки, в пении «Любисточка» и «Чумарочки», копке огорода, вынашивании и выкармливании Сережки, Андрюшки, Лягвушки… Челночком неприметным сновала она вокруг отца, соединяя тысячью нитей с новым и непонятным для него миром, разгоняла недоумение, как злой дым, расчищала колючий терн, не боясь занозить ладони, и смехом, ласковой воркотней и агуканьем над младенцем она рассеивала отцовские обиды, потому что на жизнь нельзя обижаться, и мать это знала хорошо, лучше, чем высоколобый и грамотный отец: жизнь шире всех наших представлений и взглядов, она может быть только правой, она знает только вольное и широкое течение и отшвыривает обижающихся, затаивших зло, как мусор, пену, щепу. Мать знала… И когда отец приходил осыпанный кирпичной пылью и известкой, часами просидев на месте, где совсем недавно был Михайловский монастырь с его куполами, заметными чуть ли не из Чернигова, из заднепровских далей, и где сооружали теперь невиданной величины здания, памятники новой эпохи, или, выстуженный днепровскими ветрами, возвращался со старого и тихого кладбищенского склона, близ Аскольдовой могилы, превращаемого в парк с гигантским Зеленым театром, когда отец шел, не стряхивая известку, глядя прямо онемевшими глазами, не в силах понять наплыва иной, шумной и неразборчивой в своем буйстве жизни, мать бегала сама не своя, забросив детей, «зингера», шитье алых галстуков, сбор лекарственных трав на откосах Лукьяновки и женкурсы при домкоме; наконец не выдерживала, стучалась в фанерную дверь и: «бу-бу-бу… ло-ло-ло…»
Читать дальше