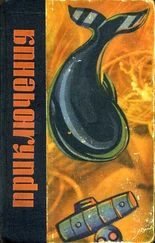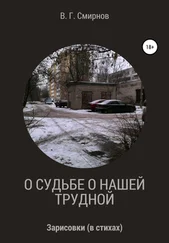С загадочных, бесконечных высот мироздания человек, бредущий по малоторной полесской дороге, неразличим, словно капля на стекле в дождливый день. Холодно, неуютно, тоскливо человеку на такой дороге, даже если бредет он по мирным, незначительным домашним делам. Но кто, скажите, будет брести по мирным и нетревожным делам в октябрьскую ночь сорок второго года? Темно, темно на земле…
14
Темно!.. А в хате потрескивает лучина, полесская военная свеча, а в печи, за снятой заслонкой, красные мерцающие уголья, долгий жар, и железный рогач ловко подхватывает прокопченный горшок с томящимся полесским борщом.
— Сынок, сядай, сядай, иде ж то ты всю ночь блукаешь?.. Голодный, либонь… [16] Наверно ( укр. ).
Ой, боже ж, как же вас война от матки оторвала, как ветром разнесла… Как же ж вы, детохны, знемогаете сами-самесеньки?.. Ой, беда волочится за вами, как голодное лето… Сядай, сядай о тут, у куточек, до печи, грейся, ты ж захололый увесь… И лицо вон у тебя все как дротом колючим рваное, ой натерпелый ты, сыночек!
У хозяйки ссохшееся, выжженное печью и солнцем лицо, глаза темными зернами среди морщин, мягкий, текучий, как река, говор. Что за язык придумало ты, Полесье, болотный и чащобный край, смешав белорусский, русский, украинский напевы и создав речь гостеприимства, доброты и жалости? Век бы слушал эту речь, как песню, засыпал бы под нее и просыпался.
— Та бери ж, посербай борщику, бочком до печи… оно и наварнее выйдет, горячее… Постный борщичок, да ничего, все же у ложку льется, а в печи варится… И хлебец, хлебец картофельный… Да чего ж? А было б у нас стольки муки, скольки у нас масла нема, таких бы пирогов напекли… на весь хатный полк…
Вот и улыбка прорвалась сквозь боль и легла приправой в пустую деревянную солонку, почерненную временем,— бери, бери, повкусней выйдет. Такой уж край ты, Полесье, все ставишь ты на стол: что есть и чего нету. «Хатный полк» глядит с полатей в шесть пар темных пасленовых глаз, «хатный полк» удивляется, он прикован детским любопытством и завистью к твоему черному автомату и твоей мужской партизанской доле.
Нехитер борщ, незамысловат, отвар грибов, бурака и капусты, но дымится он на столе, колебля желтый, трескучий язычок лучины, раскачивая штопорный дымок, и призывает к неторопливому разговору, соседской дружбе и долгой памяти. Печь, отдав горшок и опустев, колышет уголья и дышит теплом, заботой, покоем.
Как же ты попал сюда, Шурок? А очень просто: ноги принесли. Шли они в Груничи и повстречали уже поблизости от села развилку, где глухая заросшая дорожка превращалась в нахоженную, потому что вливалась в нее поперечная выбитая тропка, белая среди кустов под высокой луной. И пошли ноги, заплетаясь от неуверенности, по этой тропке в сторону от Груничей. А в стороне — поляна, на поляне — три хаты, темные, как прошлогодние скирды, за ними, на отшибе, возле большой приземистой клуни с пятнами проплешин на соломенной крыше, четвертая, и в этой хате маленький огонек лижет мутное стекло. Понесло Шурку к огоньку, будто поденку теплым током воздуха. Вдруг тот самый сказочный, счастливый случай, вдруг?.. Заходишь — знакомое лицо, комиссарские усы, рубленые жесты, уверенность и сила. «Я следом, Домок. Батя послал… Докладывай…» И все выложит Домок, и свою слабость в коленках не утаит, и спросит: идти? И если скажут «иди» — пойдет легко. Но, может, скажут все-таки то самое, спасительное: «Стоп, перемена обстоятельств, егеря снялись, долой ненужный героизм и спасибо тебе, Доминиани, за эту муку и порыв…»
В окошке из битого и прихваченного бумагой на картофельном клее стекла картинка: тьма по углам, а посреди лучина, у лучины женщина в платке и куртке, перед ней на столе ребячья обувка — валенки, бурки, чуни, а в руке кривая игла-«цыганка» с длинной нитью лоснящейся провощенной дратвы… Сел Шурка на завалинку, набитую к зиме соломой и засохшим навозом: не хотят идти ноги. Слабый свет из окошка падал на крепкую еще вишневую листву, рыжий на белом, лунном. Держал этот свет Шурку за плечи, не пускал: постой, посиди… Лился этот свет из далекого чернобыльского, хуторского, из лукьяновского детства, голос у него был знакомый, теплый и уговорчивый.
Да немного же просит у жизни Шурка: только зайти и посидеть за столом! И он осторожно, чтоб не напугать, постучал в темную, тяжелую дверь, сбитую из вершковых досок-самопилок… И так оказался в хате, в тепле.
— Поел горяченького, сынок? А ты на печь, на печь полезай, ничего, потемну сюда немцы не ходят, а до свету я тебя подниму. Я вот мужицким делом займусь, подшивкой… Ой, снашивают они обувку, скорее лучины горит. Не поспеть за ними, то то, то се. А коли день за рога не ухопишь, за хвост уже не споймаешь, вот ночью и шью…
Читать дальше