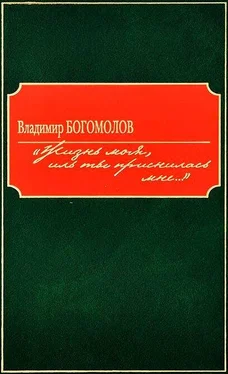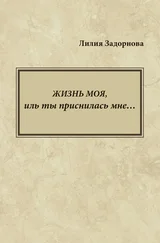В обеих теплушках с караулом имелись тормозные площадки, на которых в темное и ночное время обязаны были находиться два офицера и расчеты с ручными пулеметами.
К голове состава и к хвостовой части прицепили по шесть пульмановских вагонов с дорогой антикварной мебелью, драгоценными коврами, различными ящиками с надписями «Осторожно! Стекло!» и бесчисленными тюками, один такой тюк разъехался по шву, и я увидел в нем дорогие женские меховые шубы.
В трех или четырех вагонах везли голубого и розового цвета мраморные плиты, якобы демонтированные на вилле не то Геринга, не то Геббельса.
В голове эшелона рядом с паровозом помещалась двухосная теплушка полковника, куда перед рейсом установили двуспальную кровать и мягкое кресло, в котором он любил сидеть в пути у раздвинутой двери вагона и пить понемногу коньяк — от него с утра припахивало алкоголем, но пьяным я его ни разу не видел: он держался всегда твердо и строго, даже суховато.
Из Германии до Москвы эшелон мчался по «зеленой улице». За все время пути было всего три остановки: в Бресте, Минске и Смоленске, где наш литерный эшелон ожидали сменные паровозы и встречали начальники местных транспортных отделов НКВД. Они тянулись перед полковником, готовые оказывать всякое содействие, однако единственно, в чем они участвовали — это в обеспечении внеочередного питания личного состава караула на военно-продовольственных пунктах, где прежде всего мы по талонам забирали в большие бачки пятнадцать — двадцать обедов для собак.
Все делалось быстро, слаженно, в том числе и в Бресте, пограничному досмотру наш эшелон не подлежал, и сейчас же мы ехали дальше.
Мы прибыли на рассвете под Москву на станцию Одинцово, где полковника уже ожидала легковая машина. Он уехал в Москву и отсутствовал несколько часов. Вскоре после его возвращения к эшелону на двух больших легковых автомашинах прибыл со своим адъютантом или порученцем невысокий и даже невзрачный человечек с неприятным высокомерным лицом. Он был одет в импортный серого цвета макинтош с воротником, поднятым кушам. Хотя моросил дождик и в облаках — ни просвета, на нем были темные солнцезащитные очки и надвинутая на лоб небольшая серая фетровая шляпа. По классу автомашины и по поведению полковника я сразу понял, что это высокое начальство. Когда же полковник обратился к нему: «Товарищ комиссар!», до меня сразу дошло, что это всемогущий комиссар госбезопасности Серов, по прозвищу «Иван Грозный», приятель молодости моего дяшки Круподерова и его коллега.
Спустя многие годы я узнал, что поднятый воротник пальто или плаща, надвинутая на глаза шляпа, а иногда и темные очки были излюбленной маской Лаврентия Берии, который, при необходимости где-нибудь появиться и быть при этом неузнанным, прибегал к подобной экипировке. Серов же, надо полагать, подражал любимому шефу и, как выяснилось впоследствии, не только в манере поведения. Тем не менее, он, являясь многие годы его первым заместителем, каким-то непостижимым образом избежал суда и расстрела в отличие от моего дяшки Круподерова, занимавшего значительно меньший пост начальника какого-то отдела, и своего непосредственного начальника Берии.
Во второй машине приехала женщина, лет сорока пяти, с хорошим русским лицом, ее сопровождал молодой сотрудник в штатском и, когда она переступала через рельсы, заботливо поддерживал под руку. Я поначалу решил, что это жена Сталина, прибывшая, чтобы отобрать картины и мебель для своей квартиры, но позднее выяснилось, что это — специалистка-искусствовед.
По приказанию полковника я, сняв пломбу, открыл один из четырехосных вагонов с картинами и навесил металлическую стремянку. Кинологи, надев на собак намордники, убрали их из вагона, и мы помогли Серову и этой женщине подняться в вагон. Вслед за ними туда залезли порученец и полковник, который приказал мне находиться снаружи наготове, «соблюдая дистанцию», очевидно, чтобы я не слышал их разговоров.
В вагоне за задвинутой, как только все поднялись, дверью они пробыли примерно полчаса, потом та же самая процедура повторилась и со вторым четырехосным вагоном, где также были картины, но тут, минут через десять, дверь отворилась и полковник потребовал у меня нож, который я ему передал. Буквально через минуту он снова откатил дверь и приказал мне подняться в вагон. Я понадобился для того, чтобы помочь передвинуть и развернуть большую, размером три на два метра, картину в тяжелой раме — ее почему-то решили открыть и посмотреть. Полковник моим складным трофейным ножом разрезал шпагат, которым была сшита и стянута наружная мешковина, под ней с обеих сторон были большие листы толстого упаковочного картона, под ними картина еще была обернута в полотнище из толстой белой фланели или байки.
Читать дальше