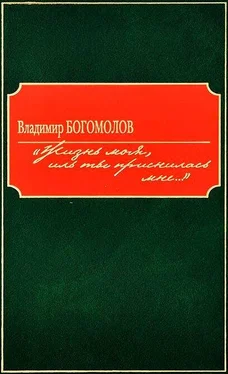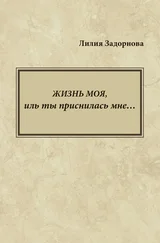Тогда, в конце мая сорок пятого в Германии, мы были горды и за страну, и за самих себя лично: мы выиграли войну и выдержали испытание. Мы, молодые, здоровые, успешные боевые офицеры, были убеждены, что вся жизнь лежит у наших ног, что каждый из нас лично подержал Бога за бороду, потому судьба и госпожа удача улыбнулись нам в тридцать два зуба, и были уверены, что так будет если не всегда, то еще очень долго.
Как молоды, как наивны, как беззаботны мы были! Мы еще не знали, не понимали, что жизнь как погода: сегодня тепло, а завтра холодно, и если ты согрет, если тебе везет, не думай, не верь, что так будет вечно. Жажда жизни — юношеское, ложное, обманчивое ощущение, — и чувство ее бесконечности переполняли нас. Мы думали, что самые большие трудности в жизни уже позади, и не знали, даже не предполагали, что трудности еще будут и ждут нас впереди.
Оставалось всего 80 дней до отъезда в Москву в академию, но в душе почему-то ощущалась какая-то неясная тревога о своем будущем, где, казалось, ожидают меня вся прелесть и радость мира и сулят захватывающую интересную жизнь и блестящую офицерскую карьеру…
Афанасий Кузьмич Круподёров был сыном родной сестры бабушки — Анфисы, — умершей совсем молодой, когда мальчику было всего четыре года. Отец его в ту пору отбывал солдатчину в далеком Туркестане, и бабушка предложила взять мальчика к себе, чтобы он не пропал без родителей, и, как она потом рассказывала, чтобы моей матери, тогда двухлетке, было веселее расти. Брали на время, но бабушка так к нему привязалась, что когда его отец, возвратясь со службы в деревню под Саратовом, женился и в новой семье родилась двойня, то, к радости бабушки, Афанасий так и остался у нее, воспитывался и рос вместе с моей матерью до семнадцати лет, когда был отдан учеником маляра.
Мне, в свою очередь, он приходился двоюродным дядей. В раннем детстве, пытаясь выговорить «дядюшка», у меня получалось «дяшка», с тех пор и бабушка стала звать его уменьшительно-ласково «дяшка» или Афоня.
Дяшка Круподеров был высоким, широкоплечим, светловолосым, голубоглазым, с крупным прямым носом, очень походил на Шаляпина, чем очень гордился, был музыкально одаренным, хорошо играл на баяне, имел приятный баритон, охотно пел и плясал, жил в Москве, был женат на балерине, артистке оперетты, хорошенькой скуластенькой кошечке, однако стариков, которых считал своими родителями, не только не стыдился и не забывал, но часто навещал и ко мне относился, как к родному сыну.
Он любил бабушку, любил по-своему и деда, и, приезжая к ним в деревню, обязательно привозил гостинцы: дорогое печенье и конфеты, хорошую московскую водку и отборную толстоспинную селедку или воблу, необыкновенный сыр и копченую с пряностями колбасу, и другую вкуснейшую снедь. Выкладывая из небольшого чемодана и передавая бабушке какой-нибудь кулек или сверток, он не мог удержаться, чтобы не напомнить о своей приближенности к высшей власти и нередко, вполголоса, чтобы не услышал дед, как бы между прочим, сообщал бабушке: «Правительственная», или «Из нашего буфета», или «Кремлевская». Если только это слышал дед, он ярился, начинал вредничать и у него с дяшкой сразу возникали споры и ссоры, подчас доводившие бабушку до слез.
В тот раз дяшка привез завернутую в пергамент палку какой-то особой колбасы и, отдавая ее бабушке, не без гордости негромко сказал:
— Кремлевская…
Но дед услышал. Когда сели ужинать, дед, уже хорошо выпив водки и закусив домашним салом, понюхал наконец кусок колбасы — она действительно имела необыкновенный запах, — затем, как бы с опаской, взял ее в рот, пожевал и тут же, с гримасой отвращения выплюнув на ладонь, бросил на пол, к порогу.
— Ты что, опять меня оскорбляешь?!. — закричал дяшка, вскакивая из-за стола. — За что?!. Маманя, будьте свидетелем! Это краковская колбаса из кремлевского буфета! Высшего сорта и сто раз проверенная! За что?!.
— Назем! — свирепо высказался о колбасе дед.
Яростным криком и с угрозой он запретил бабушке и мне даже пробовать эту колбасу, затем бросился в кухоньку и там, за перегородкой, став над помойным ведром, минуты три старательно отплевывался, совал пальцы себе в рог, демонстративно рыгал, а, возвратясь к столу, со страдальческим, но в то же время недобрым лицом заявил дяшке:
— От твоей кремлевской колбаски, Афанасий, всего наизнанку вывернуло! — и, обращаясь к бабушке, уже совсем мученически проговорил: — Угостил нас племянничек, царство ему небесное!
Читать дальше