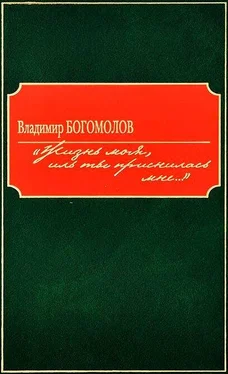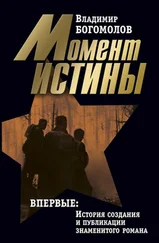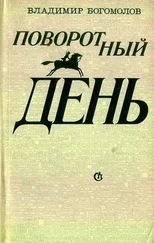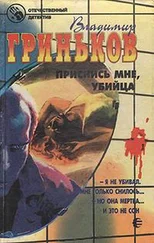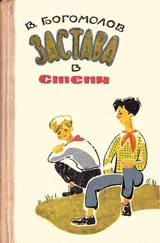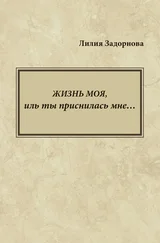Под навесом стоял верстак, на котором он работал в летнее время, на повети всегда сушилось дерево. Помню зеленый двор и груду белых пахучих стружек… В избе — два верстака, инструменты, разные заготовки… и дед, сидящий на чурбаке и вывязывающий ремешки для упряжи…
Он умел слесарничать, плотничать, шорничать и был из лучших в деревне косарей, всегда в сенокос надевал белую домотканую рубаху, на голове носил в любую погоду неизменный добротный картуз, на ногах — смазные сапоги.
Мне исполнилось, наверное, года три, когда дед решил заняться моим трудовым воспитанием. Это была весьма суровая школа. Подымали меня с петухами и дед не давал отдыха до заката: я должен был постоянно находиться рядом с ним, бегать по его поручениям — именно бегать, а не ходить! — ловить его команды, безошибочно знать весь инструмент и его назначение и немедленно подавать тот, который деду был нужен в данный момент. Если же я поначалу ошибался или замешкивался, раздавался его грозный окрик:
— Кулема! Что рот раскрыл, как сарай, хоть с возом туда влезай!
Если меня нечем было загрузить, чтобы я не бездельничал, он давал мне в качестве поноски свой картуз.
В плотницкий набор кроме топора входили: пила поперечная, скобель, пила-ножовка, долото, напарья (бурав для сверления дерева), струг, рубанок, молоток, складной аршин. Свой «струмент» дед содержал в чистоте и порядке и в чужие руки никогда не давал, а мне обещал:
— Вот подрастешь маненько, научу тебя делать стулья, столы, скамьи, шкафы да комоды. Для мастерового в деревне это твердый кусок хлеба. Оно верно… будешь жить на свои, на кровныя.
В пятилетием возрасте я не только свободно различал двойной рубанок и одинарный, шерхебель для первоначального строгания и отделочный шлифтик, фуганок одинарный и фуганок двойной, отличал горбач, зензубель от цинубеля, но умел ими пользоваться.
Я старался и уже в лет семь выдержал первый экзамен — сделал топорище из сухой березовой плашки, а топорище-то надо было еще и насадить, и правильно расклеить, чтобы топор не слетел, и зачистить стеклянным осколком. Все, чему научил меня дед, помогло мне в дальнейшей жизни.
В моей детской памяти осталось, как в четырехлетнем возрасте я, по глупости, сорвал с клумбы в соседском палисаде одну или две розы. Увидев это, дед был взбешен:
— Ну, гаденыш! Ну, окаяныш! Пошто труд людской и красоту земную варваришь?
Наказание последовало незамедлительно: дед схватил меня за шиворот, вытряхнул из подштанников и выпорол солдатским ремнем так, что я потом неделю лежал на животе.
Вообще порол он меня постоянно — за дело и без дела, — иногда просто под настроение, загоняя мою голову между ног, неоднократно жестоко бил ладонью и кулаком в лицо, разбивая его в кровь, для того, чтобы, как он объяснял бабушке, «добавить ума», при этом мне категорически запрещалось плакать.
И я никогда не плакал. Лишь однажды — дед так ударил меня большим уполовником в лоб, что я слетел с табурета и вывихнул руку в плече, — я безостановочно ревел и выл от боли до тех пор, пока деревенская баба Дуся-костоправка, за которой опрометью кинулась бабушка, не дернула руку с такой силой, что искры из глаз посыпались. Я влез поскорей на полати в запечье и тихонько поскуливал. Бабушка, безответная мученица, всегда пахнувшая топленым молоком, которое она чуть ли не каждый день готовила для меня после моего воскрешения от тяжкой болезни, любила и жалела меня, но защитить от побоев деда не могла. Плача от жалости, она перекрестила меня три раза, обнимая и целуя, шептала мне:
— Мытарик мой, будь ангелом! Господи, спаси Васену, сохрани здоровым и невредимым! — И спрашивала деда: — Ну, чисто изверг, пошто дитя родное увечишь? Не больно тебе его бить?
— Может, и больно, — отвечал дед, — лишь бы польза была.
Только раз дед пожалел меня, когда я чуть не сгорел. Намаявшись и набегавшись за день, я уснул возле печки и нечаянно упал прямо на раскаленную докрасна дверцу, от вывалившейся головешки вмиг загорелись рубашка и волосы на голове. В беспамятстве от страха и боли я бессвязно повторял слова: «Ой, горю… Ой, горю… Наверное, я совсем горю…», дед не на шутку испугался, схватил меня в охапку, выбежал во двор, долго успокаивал, приговаривая:
— Ничего, Василек, заживет все, как на собаке! Больно? Ну что ж — потерпи! Видать, судьба у тебя такая: в огне гореть — и не сгореть!
По счастью, все обошлось тогда. А смотреть на огонь я любил, сохранились самые приятные воспоминания, когда в долгие зимние вечера топилась печь. По заснеженному двору бегу в сарай, набираю под самой крышей сухих, с приставшей прошлогодней паутиной полешек, старательно обиваю опорки от снега у порога, аккуратно раскладываю дрова и растопку, опустившись на корточки рядом с бабушкой, наблюдаю, как вначале занимается в печке несмелый огонек, постепенно дрова разгораются, и весь дом преображается: на стенах пляшут красноватые отсветы, высвечивая самые темные уголки, с теплом все веселеет, как будто в дом вошел кто-то живой, пахнет дровами и растаявшим у порога снегом…
Читать дальше