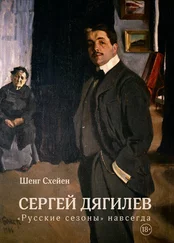Владимир Дягилев - Медсанбат-0013
Здесь есть возможность читать онлайн «Владимир Дягилев - Медсанбат-0013» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 1975, Жанр: prose_military, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Медсанбат-0013
- Автор:
- Жанр:
- Год:1975
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Медсанбат-0013: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Медсанбат-0013»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Медсанбат-0013 — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Медсанбат-0013», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Некоторое время стояла тишина. Такая тишина, что был слышен стон, доносящийся из госпитальной палатки.
«Наверное, после наркоза кто-то в себя приходит», — догадался Сафронов.
По небу чиркнула звезда, как отсыревшая спичка. Сверкнула, отлетела в сторону и не загорелась.
«Может, и там, как в воде, отражается то, что происходит здесь, на земле?» — подумал Сафронов и усмехнулся этой мысли, напомнившей детство.
Неожиданно послышался голос, до того тихий и мягкий, будто он исходил издалека, а не от палатки, стоявшей в десяти метрах от Сафронова
Не для меня придет весна, —
пел Лепик, Это было ясно. Остальные продолжали курить.
Не для меня Дон разольется, —
пел как-то по-особенному — не голосом, а душой.
А может, эта редкая тишина, наступившая неожиданно, звездная ночь, берёзовый лес усиливали впечатление.
Сафронов затаился, стараясь не выдать своего присутствия.
А сердце радостно забьется,
Теперь уже второй, более грубый голос осторожно поддержал песню. И тотчас к ним присоединился третий, высокий и протяжный:
С восторгом чувств — не для меня.
Голоса сливались, сплетались, будто свивали невидимую звенящую нить.
Не для меня сады цветут, —
стонал первый голос. И на этот стон невозможно было не откликнуться:
Зелены листья распуская.
Песня точно проходила через Сафронова. Будто и он участвовал в ней — не голосом, а сознанием, сердцем,
А речка, к солнцу убегая...
Он представлял картину, все отчетливо видел перед собой. И эти сады. И эту речку. В юности Сафронов участвовал в шлюпочном походе по рекам Сибири. Однажды они проснулись и увидели, как восходит солнце прямо над водой, меж далёкими лесами. И тогда именно так им показалось: река бежит прямо к солнцу.
Журчит вдали не для меня.
«Не так, не так, — запротестовала душа Сафронова. — Это ж временно. Это не безысходность, а вынужденность. Через это нужно пройти. Конечно, не все мы вернёмся, но это не от нас...»
И, точно почувствовав душевный протест Сафронова, Лепик отозвался на него:
А для меня опять война,
Лепик не усилил, а как-то слегка изменил голос, наполнил его силой, и он зазвучал твердо, упрямо, уверенно, И хотя слова были нерадостными, в них больше не чувствовалось грусти и уныния, а ощущались страсть, и злость, и вера в добрый исход.
Опять холодные окопы...
«Да, именно. Через это необходимо пройти. И это не от нас... Молодец Лепик. Никуда я его не отпущу...»
Гудение моторов оборвало песню. Санитары вскочили и направились к дороге. Сафронов догнал их.
19
Пришло сразу три «студебеккера». И рабочая машина, тот агрегат, который мысленно представлялся усталому Сафронову, вновь заработал, перескочил на другую скорость, закрутился на всю мощь своих оборотов, диктуя людям свой ритм и свое напряжение.
Опять замелькали перед глазами Сафронова лица, сливаясь в одно лицо, зарябило от красного и белого, запахло кровью, зазвенело в ушах от стонов и просьб. Снова он встречался с вопросительными, недовольными, молящими, упрекающими, тускнеющими взглядами раненых. И в который раз бегал в операционную, в перевязочную, к командиру МСБ все с той же просьбой: «Нельзя ли побыстрее? Отяжелевают». Но они будто не понимали его, потому что не видели укоряющих глаз, не слышали просьб, мольбы, ругани и угроз.
Они ничем и не могли помочь, — сократить поток, ускорить работу, совершить какое-то чудо, — вынуждая его оставаться со своим недовольством и нарастающими с каждым часом душевными терзаниями.
В самой сортировке все шло как надо. Раненых принимали, поили, кормили, оказывали помощь, ухаживали, наблюдали. Санитары, на которых так не надеялся Сафронов до начала операции, делали все, что от них требовалось, старались, не щадили себя, работали не покладая рук. Но Сафронов видел: все старания — и его, и подчиненных — не то что напрасны, но не достигают желанной цели. Люди залеживаются и отяжелевают. Теперь он уже и сам понимал, что поток нужно как-то сдержать, напор его уменьшить, иначе вообще агрегат может не выдержать напряжения и выйти из строя. Он даже представил себе нечто вроде короткого замыкания, нечто вроде огромной вольтовой дуги, где горят они все, — и тут же отбросил это болезненное видение.
Хорошо бы перевести скорость, усилить темп, но этого не получается. Значит, остается одно: не принимать посторонних, чужих, не своих раненых. В душе он был против этих слов: «посторонние», «чужие», «не наши», но иного выхода не было. И Сафронов отдал жесткую команду: «Принимать только наших. Остальных в исключительных случаях, только по жизненным показаниям». Он дал в помощь принимающему лейтенанту Кубышкину самого бывалого и крепкого санитара — сержанта Трофимова. Но и заслон не всегда помогал. Шоферы и сопровождающие были стреляными ребятами. Они грозились, размахивала перед носом Кубышкина оружием, крыли матом, а раненые тем временем, видно проинструктированные заранее, потихоньку покидали кузов, пристраивались к тем, кто располагался вокруг палатки. Пойди разберись ночью, кто свой, кто чужой. Когда санитары разгадали этот нехитрый фокус, появился новый. Машины не доходили до медсанбата, останавливались метрах в ста. Там ходячие вылезали и добирались до сортировки своим ходом. А уже после этого лежачих подвозили к палатке.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Медсанбат-0013»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Медсанбат-0013» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Медсанбат-0013» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.