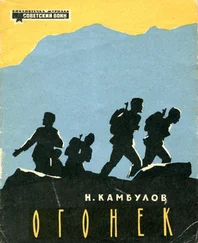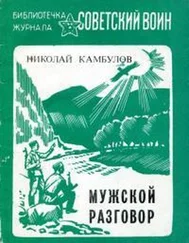— Становись! — командует Егор.
Теперь более расторопно занимаем места в строю.
— Иван Чупрахин, Николай Самбуров, Алексей Мухин! — выкрикивает Кувалдин, держа в руках зажженную плошку. — Выйти из строя.
Первым выходит Мухин, я следую за ним. Иван, недоуменно взглянув на Егора и поколебавшись, становится рядом со мной.
— Вы остаетесь здесь, — негромко, но вполне ясно сообщает Кувалдин.
— Почему? — нетерпеливо спрашивает Иван.
— Да, вы остаетесь здесь, — подтверждает Правдин. — Вам поручается особое задание. — Политрук поднимает над головой свернутое знамя. — Вот эту святыню передаем в ваши руки. Сейчас мы не можем взять с собой знамя. Понимаете, не можем, слишком большой риск. Егор Петрович, объявите им приказ.
Кувалдин берет знамя и, развернув его, громко чеканит слова:
— Приказываю: красноармейцам Ивану Чупрахину, Николаю Самбурову и Алексею Мухину принять боевое Знамя дивизии и при первой возможности доставить его командованию советских войск. Хранить знамя пуще своей жизни. В случае утраты дивизионной святыни Чупрахин, Самбуров и Мухин предаются суду военного трибунала… Вам понятен приказ?
— Понятен, товарищ командир, — отвечаем втроем.
— Ну, а теперь простимся. — Егор обнимает нас, и я замечаю, как по его заросшим скулам катятся крупные слезы… Больно щемит сердце. «Егор, друг ты наш хороший, и ты плакать можешь», — стонет моя душа.
— Полк, за мной, марш! — встав впереди колонны, делает шаг Кувалдин.
Кто-то запевает «Вихри враждебные». Стою, прижавшись к Ивану, смотрю вслед уходящей колонне. Над их головами маячит шапка Егора. Позади строя качается на костылях политрук.
А песня звенит, звенит… И в звоне этом не печаль, а гордая непреклонность людей, моих товарищей.
— Поют хорошо. Нет ли у тебя, Бурса, папироски? В глазах какая-то резь, — говорит мне Чупрахин. Затем, сняв, с себя шинель, гимнастерку, просит помочь обмотать его знаменем. Вновь одевшись, стучит себя по груди: — Я теперь самый сильный на земле человек, здесь сердце всей дивизии, попробуй меня согнуть — сто тысяч смертей получишь.
— Пошли, а мы подождем, — вдруг шепчет позади Беленький. — Слышишь, студент, как-нибудь спасемся…
Иван поворачивается на голос Кирилла и от неожиданности не может выговорить слова.
— Что смотришь? — продолжает Кирилл. — Не узнаешь?
— Ну и стерва же, а?! — наконец выпаливает Иван. — Он не хочет собой рисковать! Уходи ты подальше от меня.
Наступает ночь. Пытаюсь уснуть, но только смыкаю глаза, как передо мной возникают идущие в атаку бойцы. Вздрагиваю. Не спит и Чупрахин.
— Слышишь? — шепчет он.
— Что?
— Море…
Напрягаю слух: звенит в ушах, стучит кровь в висках.
— Что ты? Какое море?
— Слушай… Волна о берег бьется. Вот она катится… Идет, идет… шумит галькой. Вот пошла назад. Не слышишь? Эх, пехота! Никакого таланта, — сокрушается Чупрахин.
Подходит Беленький. Он говорит мне:
— Мы должны молчать, молчать. Немцы подумают, что тут никого не осталось, и уйдут. Нам легче будет выбраться отсюда.
— Пошел вон! — кричит Чупрахин.
— Тише, Иван… Вот пощупай, — Беленький протягивает Чупрахину рюкзак.
— Что это?
— Зарыл, а сейчас откопал. Троим хватит на неделю.
— Как троим? — возмущается Иван. — А Мухин? Да тут еще вон раненые остались… Ты что предлагаешь мне?
— Тише, кричишь, как на рынке…
— Подлец! — в темноте слышится голос Чупрахина.
— Перестань, успокойся, — умоляет Беленький.
Наконец возня прекращается. Чупрахин ощупью находит меня. Чувствую, как он весь дрожит.
— Слаб я стал, Бурса. Хочешь водички, попей. У Философа отнял.
— Ты что с ним сделал?
— Ничего. Закрой уши, плакать хочется. Закрой, тебе говорят! — кричит он, ложась лицом вниз.
Среди ночи кто-то кричит долго и протяжно:
— Я — «Волга»! Я — «Вол-га-а»! Перехожу на прием!
Умолкает и снова:
— Прием! Прием!..
И хохочет:
— Ха-ха-ха!
Раздается выстрел. Тишина, потом стон, и снова тишина. Что там в темноте произошло, каждому из нас понятно.
— Глупо! — замечает Чупрахин. — Человеку так поступать нельзя.
— Пи-и-ить! — слышится уже рядом. Иван вырывает из моих рук флягу, ползет на стон. Возвратившись, он рассудительно говорит:
— Когда сталь ломается — удивительного ничего нет: сплав плохой, и только. А человек, он должен быть крепче стали. А ты, Бурса, как думаешь? Молчишь? Тебе скажу: человеку ломаться нельзя. Он ведь хозяин всему… Гений!
Читать дальше