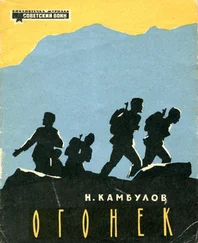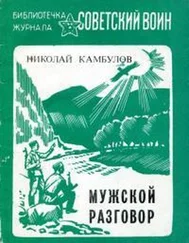— Я знаю, что делаю. Смотри тут.
— Егор, послушай, — настаивает Чупрахин, — я пойду.
— Нет, оставайся здесь. Дело трудное, а у меня еще силы есть. Сэкономил на командирской должности, — вдруг шутит Кувалдин. — Самбуров, пошли.
Поднимаемся с трудом. Дрожат ноги. Егор подает мне руку, помогает преодолеть последний метр. В вечерней мгле темным пятном виднеется стоянка машин. Там немцы.
— Ну! — шепчу Кувалдину.
— Лежи, лежи, — тихо отвечает он.
А лежать уже невозможно. Со стороны машин ветром доносит запах жареного мяса. Фашисты ужинают. От одной этой мысли кружится в голове, я уже не помню, когда мы в последний раз ели.
— Посмотри направо, что там чернеет, не сады ли? — говорит Егор. Я всматриваюсь. Думаю: «Сады, ну и что из этого?»
— Ну, — торопит с ответом Кувалдин.
— Сады, — отвечаю.
— За ними должен быть овраг, по нему можно проникнуть в город. Понял, Николай?
— О чем ты, Егор? А как же остальные? — не пойму, на что Кувалдин намекает.
— Эх ты, — сокрушается Егор. — Я командир, отвечаю за каждого. Думаю о выходе из катакомб. Такой час настанет. Я жадный до жизни. Прорвемся или погибнем в открытом бою. Но только заживо я себя здесь, в этом подземелье, не похороню. Понял, о чем я мечтаю? А сейчас мы этим гробокопателям шумовой концерт устроим.
Он берет камень и бросает вниз. Один за другим поднимаются восемь человек. Егор дает знак: рассредоточиться в цепочку.
…Метров сто ползем по-пластунски. Впереди двигается Егор. Тишина. Где-то за машинами какой-то гитлеровец пиликает на губной гармошке. Неподалеку от Кувалдина вырастает фигура часового. Тихонько насвистывая, он топчется на одном месте.
Егор приподнимается. Мы сжимаем в руках гранаты.
— По-олк, огонь! — кричит Кувалдин.
Бросаем гранаты в два приема. В темноте ярко вспыхивают разрывы. Впереди образуется какой-то пляшущий клубок.
— Полк, в атаку! — повторяет команду Егор. Но это сигнал к отходу.
У пролома на минуту задерживаемся. Клубок пляшет, мечется, надрывно стонет. Откуда-то издали начинают бить минометы. Мы скользим по конусу в свое подземелье.
Внизу Егор, еще находясь в возбужденном состоянии, говорит:
— Теперь они не будут орать «выходи»… Поймут: подземный гарнизон живет и борется.
Взрывы не прекратились. После нашего налета немцы участили их. Теперь они не оставляют проломы открытыми, засыпают землей и камнями. Гитлеровцы ищут нас, видимо намереваются задавить обвалом. Щупают круглые сутки, а напасть не могут. От взрывов ходуном ходят катакомбы. Вчера с потолка отскочил большой камень. В этот момент Крылова перевязывала Правдину ногу. Ракушечник упал ей на спину. Она потеряла сознание. Через полчаса пришла в себя. Но теперь не поднимается, лежит у стены рядом с политруком. Правдин сидит на разостланной шинели, прислонившись к ящику. Над его головой чуть дрожит от взрывов полотнище знамени. При свете плошки знамя кажется густо-багровым, словно залитым кровью.
Егор, я и Чупрахин только что возвратились с восточного участка. Ночью мы, собрав ручные гранаты, расставляли их вместо мин неподалеку от входа. По предложению Кувалдина мы вкладывали запалы, тонкой проволокой закрепляли чеки и потом соединяли гранаты между собой: если за проволоку дернуть, чека соскочит с боевого взвода и гранаты начнут рваться. Теперь фашисты не могут внезапно ворваться в катакомбы.
Маша смотрит на нас стеклянными глазами. Губы у нее почернели, набухли. Чупрахин, отстегнув флягу, предлагает ей воды. Мы все смотрим на Ивана. Словно поняв наш молчаливый вопрос, он говорит:
— Там всего глоточек, берег на крайний случай. Пей, доктор.
— Не надо, — вздыхает она, чуть повернув голову к Правдину. Но Иван настаивает, подносит ко рту флягу.
— Теперь легче? — спрашивает он.
— Да… Только спать хочется. Я и дома была порядочная соня, а мама сердилась. Товарищ политрук, а у вас есть родные? — вдруг спрашивает она.
— Есть, Маша, и мать и отец. В Мурманске живут.
— И жена есть? — Крылова с трудом поднимает голову и затуманенным взглядом всматривается в лицо политрука.
— Жены нет… Но будет, — стараясь улыбнуться, отвечает Правдин. — А впрочем, не знаю, пойдет ли кто теперь за безногого, — пытается он шутить.
— Пойдет, Вася… Пойдет… Вы же, Вася… хороший… Ой!.. Вася! — вскрикивает она, словно боясь чего-то, отшатывается, запрокинув голову назад.
Вечером мы хороним ее в центре «вестибюля». Политрук неотрывно смотрит, как растет каменистый холмик. А погодя, когда, уже похоронив Машу, мы вновь садимся возле Правдина, он произносит:
Читать дальше