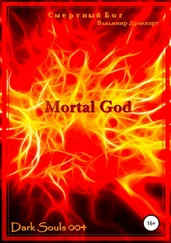Его рука, придавленная рукой Ларкина, упала навзничь. Ларкин отпустил его руку и пошевелил в воздухе занемевшими пальцами.
— Ты тоже парень ничего, — сказал он. — Есть силенка.
— С тобой мне никогда не справиться, — сказал Андриевский и пошел снова к своему креслу.
— Со мной тебе не справиться, — спокойно подтвердил Ларкин. — Ты у Марии Васильевны один сынок. А нас у матери семеро было.
— Ну и что? — удивленно спросил Борис.
— Было семеро, а в живых трое осталось. Жизнь у нас такая была, что слабые все поумирали. Остались только уж такие, которых ничем не возьмешь. Понял эту механику?
— Слушай, Ванька, — сказал Андриевский. — Ты почему мне никогда про свою девчонку не рассказывал?
— Так ты же знаешь, что у меня нету девушки.
— Ну, которая раньше была…
— И раньше не было.
— Это ты зря, — убежденно сказал Андриевский. — Без девчонок не проживешь…
— Так я не нарочно, — спокойно объяснил Ларкин, — Жизнь так складывалась. Работать надо было. Учиться. И не смотрят на меня девушки.
Андриевский удивленно взглянул на Ларкина. Он привык к его белесым глазам, к его морщинам, его серьезному лицу, но в этот момент ему хотелось рассмотреть это лицо не так, как он его видел, а как его могла увидеть девушка. И тогда он вдруг ощутил в груди у себя что-то непривычное, что-то теплое и щекочущее, чего никогда не испытывал к мужчинам. Это было похоже на нежность. И на жалость.
— Дуры они, — сказал он сердито. — Ты же мировой парень.
Ларкин нехотя улыбнулся.
— Мы с тобой, Ванюха, еще дадим жизни, — горячо сказал Борис. — Вернемся в Москву. Вся грудь в орденах. Танька тебя с такими девчонками познакомит, — закачаешься.
— Ты же собирался в армии оставаться, — сказал Ларкин.
— Не знаю. Может, и не останусь. Ты демобилизуешься. Женька демобилизуется. Все ребята уйдут в гражданку. Чего я один останусь?
— Учиться надо, — одобрительно Сказал Ларкин.
— Учиться как раз неохота, — сказал Андриевский. — Такой лоб снова за парту сядет. Да и экзаменов не сдать мне. Перезабыл…
— Ничего, — сказал Ларкин. — Война все спишет…
— Слушай, Ванюха, ты как думаешь: а не будет нам с тобой после войны скучно?
— Да ты что?
— Не знаю… Черт его знает… Мне даже сейчас домой ехать расхотелось. Чудно!
— Брось, Борька! Съездишь и вернешься…
— Конечно, съезжу. Там мама, Танька… И по Москве я очень скучаю…
— В театры походишь. Погуляешь, как положено…
— Погулять-то погуляю. Чего-то мне только с ребятами расставаться неохота. Как бы вы без меня войну не кончили…
— Успеешь. Вернешься, и повоюем вместо…
— Повоюем, — сказал Андриевский. Ему захотелось разогнать неожиданную и ненужную грусть, он вскочил на ноги, выхватил из-за голенища свой ТТ и выстрелил в белую с синими разводами тарелку, висевшую на стене против него. — Повоюем! Дадим еще гадам жизни…
— Не надо, Боря, — сказал Ларкин. — Может, это ценная посуда…
— Плевал я на барахло, — сказал Андриевский и выстрелил в другую тарелку. — Ты, Ванюха, барахлу никогда не поддавайся! — Он снова выстрелил и бросил пистолет на стол. — Мы с тобой еще в Москве дадим жизни. Можно на стипендию прожить?
— Можно. Подрабатывать придется.
— Ну и все. И вся сказка. Ты в университет вернешься. Я могу, например, в геологический пойти. Заживем?
— Заживем.
— Тебя моя Танька обязательно с подругой познакомит. Будет полный порядок в танковых войсках. Ясно?
— Ясно.
— Наливай рому, Ванюха!
— Хватит, — сказал Ларкин и начал надевать на себя ремень. — Пообедали, и хватит. Ехать пора.
— Посошок на дорожку, — сказал Андриевский. — Один посошок, и поедем. За все хорошее…
Он начал наливать в кружки ром. В это время в дверях показался Карасев.
— Кончайте веселиться, начальники, — сказал он. — Батя приказал возвращаться к шоссе.
— Прими, Карась, посошок, — сказал ему Андриевский. — Я тебе за этот ром потом голову отвинчу.
— На переформировку пойдем? — спросил Ларкин.
— Начальству видней, — сказал Карасев. — Оно газеты читает…
Кружки у него с собой не было, и Андриевский дал ему бутылку с остатками рома. Они звонко чокнулись, и, запрокинув голову, Карасев начал пить из бутылки.
— Ложка есть? — спросил у него Андриевский.
— Шансовый инструмент всегда при солдате, — сказал Карасев и полез за ложкой в сапог. — По уставу…
Как всегда, Андриевскому было жалко, что приходилось прерывать интересный разговор с Ларкиным. Он любил эти разговоры. С другом можно говорить обо всем. Он все поймет. И ты все поймешь из того, что он скажет. И от этого возникает какая-то необыкновенно приятная, необыкновенно важная близость с другим человеком, он становится почти родным для тебя, а ты чувствуешь, что ты такой же родной человек для него. Андриевский никогда не думал, зачем ему нужно такое чувство, но оно было ему очень нужно, он никогда не мог без него обходиться, не умел быть одиноким, не умел жить без друзей.
Читать дальше
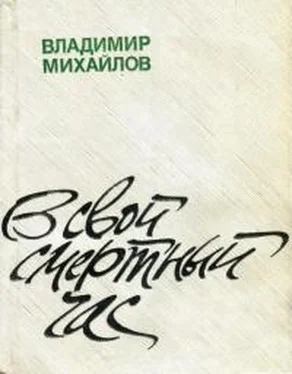







![Владимир Упоров - Смертный Бог [СИ]](/books/411019/vladimir-uporov-smertnyj-bog-si-thumb.webp)