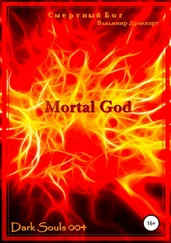Легкий ветер треплет ее рыжие волосы, она поправляет их привычным жестом и говорит:
— Чего же мы у входа стоим? Идемте, я покажу наш класс.
Мы входим в пустой и гулкий вестибюль. В канцелярии секретарь — юное милое существо, вчерашняя школьница — сообщает нам, что «Мемориальный класс» не заперт, и дает ключ от «Комнаты боевой славы».
Мы поднимаемся на четвертый — последний — этаж и входим в «Мемориальный класс». Собственно, это обычное учебное помещение, только на одной из парт — третьей в ряду у окон — прикреплена латунная дощечка, указывающая, что здесь сидел Борис Андриевский.
— Парта, может быть, и та, — смеется Лариса Павловна, — но в таком случае ее перетащили с «Камчатки». Для приличия… А вот мое место…
Она подбегает ко второй парте в среднем ряду и, привычным движением откинув доску, садится за парту. Как ни странно, эта холеная, яркая, благополучная женщина не выглядит в таком, казалось бы, неподходящем для нее месте ни смешной, ни нелепой. Может быть, из-за почти детского радостного оживления, написанного на ее лице.
— Здесь вот сидела Зина Пономарева — наша всегдашняя староста, — показывает мне Лариса Павловна. — Здесь — Нинка: она теперь доктор химических наук. Здесь — Валя: профессор медицины. Здесь Володька Ильин — работает по ракетам… Сильные у нас были все ребята. Дружный класс. Например, такой закон был. На экзаменах, на контрольных отличники уходили из класса последними. Чтобы подсказать тому, кто заваливается, задачку решить тому, кто горит… Или вот, когда Бориса за неуспеваемость из школы исключали раз, ребята пошли к директору, отстояли его, а потом спрашивают: «Будешь учиться?» Он говорит: «Буду. Вы знаете — мое слово твердое». И действительно двойки с тех пор редко хватал. Но с ним отличники занимались. По математике, например, поручили его «взять на буксир» Тане Евдокимовой. Она к нему домой помогать ходила. Так у них начались личные отношения…
— А как вы к этому отнеслись?
Я сижу за учительским столом, и со стороны, наверно, могло бы показаться, что учитель задает вопросы, а ученица отвечает с места. Только не встает при этом. И, по-видимому, ей попался трудный вопрос, она задумывается на минуту, начинает отвечать неуверенно, но потом «вспоминает материал» и уже рассказывает даже с некоторым увлечением.
— Не знаю, как сказать. Не было ли у нас с ней ревности? Нет, наверно. У нас в классе вообще ничего такого не бывало: ревности или интриг. Мы иногда все втроем в кино ходили. Ну это редко. Я же говорю: все-таки у нас все по-детски было. Я как раз очень много болела в девятом-десятом классе. И с Таней мало общалась. Нас только как-то Борис объединил. У нас молчаливое сосуществование было. Мы друг к другу на расстоянии хорошо относились. Она понимала, что он ко мне тянется по другой причине, не потому что я умный человек, товарищ хороший, а он ко мне, как говорили, симпатию испытывал. За косы меня дергал. И все такое. Это же все-таки школа была. Мы ходили втроем иногда. Гуляли. Но это редко очень было. Однажды мы с ней вместе к нему ходили, когда он заболел. У него заражение крови обнаружили: сковырнул у себя какую-то болячку. Мы с ней пришли к нему домой, стучали, стучали в дверь, не открывают. Мы испугались, что он уже умер. Ну знаете — девчонки. Потом нам соседка сказала, что он, наверно, пошел в поликлинику. Тогда мы отправились рядом с его домом в булочную, вернулись в подъезд, сели на ступеньки и начали есть булочки, как сейчас помню, за 12 копеек. Вдруг слышим: кто-то снизу поднимается по лестнице, едва-едва, шуршит ногами и по стенке передвигается. Но как он увидел нас — разве он покажет, что по стенке идет? Сразу грудь колесом. А чувствуется, что он просто падает. Пришли в комнату, положили его в постель. «Борис, лежи тихо». А он в постели начал вытворять, ноги задирает к потолку, физкультурой занимается, показывает, что у него все в порядке. Ну мы ушли, перепуганные конечно. Несколько лет назад мы с Таней встречались, вспоминали, как Бориса навещали вместе. Мы многое с ней тогда вспомнили. Конечно, мы не говорили прямо в лоб: «Он меня любил». Или: «Он тебя любил». Мы вспоминали общие моменты. Очень доброжелательно друг к другу. И так было всегда. Во все времена. Конечно, мне бывало обидно, что он много времени проводил с ней. Но я ее всегда очень уважала. Помню, когда уже война началась, мне взбрела в голову очередная дурацкая фантазия. Я тогда вычитала у Цвейга что-то про розы — у меня был свой Цвейг, он в войну пропал, — купила три розы и придумала, что, пока они не завянут, я с Борисом встречаться не буду. Наказать его нужно. А уж за что — это я, конечно, теперь абсолютно не помню. Но оказывается, он как раз в этот момент получил повестку в армию. И мне не сообщил об этом. Назло. Так Таня меня специально предупредила, что он такого-то числа уходит в армию и провожать его надо в таком-то часу и там-то. Он должен был уехать в армию очень рано утром. Я проснулась в это время. И думаю: «Ну как же это? Как это в такой момент Таня будет около нас? Может быть, действительно я его не люблю, может, я действительно играю в эту игру? Может, и он меня не любит?» Все-таки где-то в глубине души мне было тревожно, но думаю: «Пусть Таня спокойно его проводит — не буду мешать. Она его уж точно крепко любит». Мне потом мать Бориса часто говорила: «Ну зачем ты жертвовала собой? Ну зачем?» Зачем? Не знаю. Как-то так получилось. Я считала, что у Тани более сильное чувство, чем у меня. Потому что она такая… Она хороший товарищ. Борис это признавал. Он говорил мне: «Она очень хороший товарищ. Но я ее не люблю — люблю тебя». Ну он, наверно, тогда не умел толком объяснить, какое им владело чувство, как к женщине или как к человеку.
Читать дальше
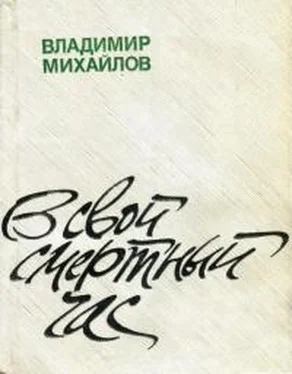







![Владимир Упоров - Смертный Бог [СИ]](/books/411019/vladimir-uporov-smertnyj-bog-si-thumb.webp)