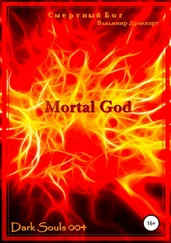— Скажите у вас сохранились письма от Бориса?
— Да. Сохранились.
— Мне бы очень важно было их почитать. Вы разрешите?
— Не знаю. Я в них очень давно не заглядывала. Их еще надо поискать…
Когда-то Татьяна Николаевна получала эти письма. Тогда она их читала. Теперь их надо разыскивать…
Человеку со стороны, конечно, неприятно это слышать, неприятен весь холодный телефонный разговор. Но я не спешу с осуждением, не хочу быть моралистом. Что мы знаем о чужой жизни? Может быть, у этой холодности, у этого равнодушия есть основания? Может быть, существуют какие-то скрытые мотивы? Может быть, оно не искренне — это демонстративное равнодушие к своему прошлому? Возможно, эта холодность вообще не имеет отношения к прошлому, а направлена лишь против теперешнего непрошеного вторжения в это прошлое со стороны? Разве обязана Татьяна Николаевна демонстрировать свои чувства перед первым встречным?
Откуда мне знать, в чем скрыта правда!
— Все же не разрешите ли мне приехать за письмами? Это отнимет у вас всего несколько минут.
— Нет. Мне это неудобно. Если хотите, позвоните в конце месяца…
Ну что ж! В конце месяца так в конце месяца! Подождем!
Однако и личная встреча с Татьяной Николаевной мало что прояснила для меня.
Свидание мне назначено в учреждении, длинное, труднопроизносимое название которого позволяет все же понять, что оно связано с машиностроением для легкой промышленности. Расположено это учреждение в одном из деловых переулков неподалеку от Таганки, в дореволюционном, построенном на века, жилом доме в три этажа, переоборудованном под контору. Низкая входная дверь с тугой пружиной вталкивает меня в вестибюль — узкую комнату, освещенную тусклой пыльной люстрой. Справа на стене висит внутренний телефон для посетителей, слева в ряд стоят три потертых стула, в глубине — стеклянная будка, в которой сидит могучий пенсионер — вахтер, проверяющий пропуска.
Звоню по внутреннему телефону, и Татьяна Николаевна обещает через несколько минут выйти ко мне в вестибюль. Я сажусь на один из потертых стульев и терпеливо жду. Мимо идут деловые люди. Входят, выходят. Пожилые мужчины с толстыми портфелями, легкокрылые девушки с бумагами, а чаще всего тяжелой уверенной поступью следуют с хозяйственными сумками в руках нынешние столоначальники и титулярные советники — женщины, чьи костюмы и платья туго натянуты на могучие торсы без талий, чьи круглые лица, на которых краски природной силы и здоровья соперничают с косметическими цветами помады и туши, дышат такой безмятежной и суровой волей, какую я встречал только на портретах полководцев.
Потом как бы по закону контраста из-за стеклянной вахтерской будки появляется тонкая, пожалуй, даже худощавая женщина, одетая по той строгой и элегантной моде, которая является как бы вицмундиром деловых женщин, добившихся более высокого положения в служебной иерархии. На ней хорошо сидит строгий, английского покроя, джерсовый костюм цвета маренго, под жакетом сияет белизной гипюровая блузка, на ногах — изящные туфли. Ее фигура без малейшего напряжения держится прямо, небольшая голова с аккуратной прической приподнята немного вверх. Тем не менее во внешности этой женщины ощущается какая-то дисгармония, чувствуется какое-то несоответствие. Когда она подходит ко мне, я встаю со стула и только тут понимаю, откуда: возникает это впечатление: ее нарядная одежда как бы подчеркивает, некоторую блеклость, бесцветность маленького лица, на котором отсутствуют всякие следы косметики. Даже бледные, губы не накрашены.
Это и есть Таня. Сегодняшняя. Взрослая. Татьяна Николаевна.
Я ожидаю, что она поведет меня мимо вахтера в глубь своего учреждения и в ее кабинете я смогу расспросить ее в подробностях ее отношений с Борисом Андриевским, о нем самом, о том, как складывалась ее жизнь все эти долгие годы после войны, после его гибели. Но, сдержанно поздоровавшись со мной, она сразу протягивает мне канцелярскую папку с тесемками.
— Вот эти письма, — говорит она.
Я хочу взять у нее папку, но она не выпускает ее из рук. Я вижу на зеленом картоне длинные красивые, «дамские» пальцы, ухоженные и нежные. Но с ненакрашенными ногтями, без маникюра. Поэтому руки, как и лицо, выглядят немного странно, двойственно, а может быть просто непривычно.
— Я не дам вам эти письма, пока вы не гарантируете мне их возврат, — говорит она.
— Конечно, гарантирую, — уверяю я. — Через две недели я их верну.
Читать дальше
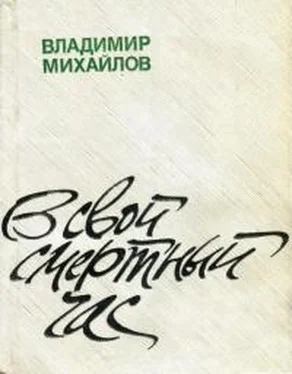







![Владимир Упоров - Смертный Бог [СИ]](/books/411019/vladimir-uporov-smertnyj-bog-si-thumb.webp)