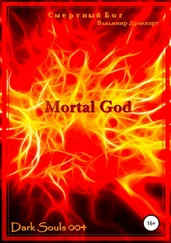У этого поколения трагическая судьба. История человечества не знала такой драмы, когда на войне погибало почти полностью целое поколение мужчин: как утверждают, после Отечественной войны в нашей стране осталось в живых всего три процента мальчиков 1922 года рождения. Так, может быть, следует назвать это поколение «трагическим поколением»? Я уверен, что мои сверстники отвергли бы такое определение. Они не ощущали свою судьбу как трагедию. Просто надо было защищать свою Родину от агрессора и захватчика, от смертельного врага, и они защищали ее, веря в жизнь, в свою правоту, не зная сомнений и внутреннего разлада. Такими были те, кто погиб, пока они оставались живыми, такими были те немногие, кто живым вернулся с войны.
Эти немногие наши сверстники, что демобилизовались в сорок шестом году, так и не получили никакого названия. Они долго еще ходили в гимнастерках и шинелях, ходили так не потому, что не хотели с ними расставаться, а потому, что не на что было купить пиджаки. Они стеснялись говорить «невеста», слову «свадьба» предпочитали слово «выпивка», презирали мужчин с обручальными кольцами, но, разумеется, очень скоро обзавелись семьями и каждое воскресенье — «День отца» — выводили прогуливать детей. Иногда они таскали малышей на футбол или в «шалман», дети могли наслушаться от них грубых слов, увидеть драку, только расчетливости в деньгах, только хитрости и интриганству, только самодовольству и барству дети не могли у них научиться…
Тут мои размышления прерывает тихий и вежливый голос Султанова:
— Я, конечно, технарь. Может, неправильно скажу с исторической точки зрения. Только, ребята, как нас до войны называли? «Дети сталинской эпохи».
— Ну и что? — спрашивает Ларкин.
— А то, что, может быть, правильно назвать нас — сталинское поколение?
— А ведь верно: мы были «людьми сталинской эпохи», — задумчиво говорит Ларкин. — Но можно ли нас назвать «поколением сталинцев»? Мы не выбирали его — для нас он был всегда! Мы любили его, мы верили ему, не задумываясь, как не задумываются над тем, что солнце светит, а листва имеет зеленый цвет. Мы не представляли себе мира без него, но когда мир остался без него, а мы узнали об ошибках, о нарушениях законности, мы осудили культ личности. Но во всем этом очень сложная диалектика. Тут легко впасть в историческую ошибку. Чем отличается наше поколение от всех других поколений? Я думаю, что мы первое и единственное поколение, у которого революция и Сталин слились в сознании. Кто старше нас — те участвовали в революции или видели, пережили ее, и кто немного моложе нас, у тех революция отдалилась в историю, а в войну они были еще дети, несмышленыши. Для нас не существовало малейшего расхождения между идеалами революции и практикой жизни, может быть, потому что мы, по молодости лет, еще и не знали по-настоящему жизни. У нас не было никакого разлада в психике — и мы были сами цельные. Все, по нашему мнению, шло не только правильно, но так, что по-другому и не могло идти. А такая позиция не очень-то способствует развитию критического мышления…
— Ты, Иван Андреевич, опять все путаешь, — решительно перебивает его жена. — Лезешь не в свое дело, путаешь все. Поэтому у тебя и неприятности с директором, с роно.
— Разве у тебя, Иван, неувязки по работе? — обеспокоенно спрашивает Чигринец.
— Ну, этого дела быть не может, чтобы у Ивана Андреевича по работе неувязки были, — убежденно говорит Ткаченко. — Мы все помним: старшего лейтенанта Ларкина вся бригада уважала — от рядового до командира. Да чего говорить: его сам маршал знал!
— А теперь его никто не знает, — с какой-то непонятной иронией восклицает Нина Харитоновна. — Сколько лет в школе работает, коммунист с сорок второго года, участник войны, а даже до завуча не смог дослужиться. Кто же такого уважать будет?
— Это она так в запале говорит, — добродушно успокаивает друзей Ларкин. — Все у меня нормально, и никаких неувязок на работе нет. Только вот жена волнуется, что я не в начальниках хожу — просто учитель истории. Она считает, что я чего-то недополучил от жизни за свои заслуги. А я все получил, что хотел. Я стремился не заведующим роно и не директором быть, а учить ребят, раскрывать перед ними поучительные и великие законы истории человечества. Я этим и занимаюсь. Ребят своих люблю, дело это люблю. Чего мне еще надо от жизни?
Но, видно, никакие доводы не могут переубедить Нину Харитоновну.
— Вот, сами видите, — торжествующе говорит она. — Ничего ему не надо! Разве такой человек добьется чего-нибудь в жизни?
Читать дальше
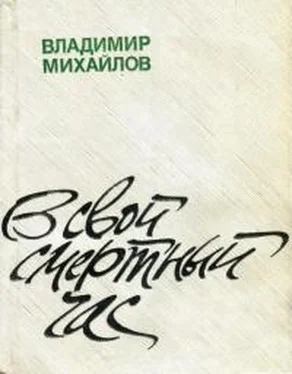







![Владимир Упоров - Смертный Бог [СИ]](/books/411019/vladimir-uporov-smertnyj-bog-si-thumb.webp)