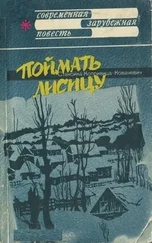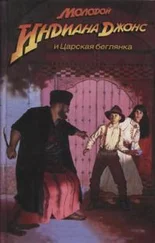— А как с отцом, Весна?
— Он остался в целом таким же, только имя ему я тоже изменила. Звучит не хуже прежнего прозвища.
— Вот и хорошо. А наши имена звучат красиво. Только к ним надо привыкнуть.
— Теперь никто ничего не узнает. Каждая гора может так называться. И на каждой ведется борьба. И молодость такая же. Что ты думаешь об этом? — Она показала на обложку тетради и первую страницу. На них крупными буквами было написано: «Не для опубликования».
— Согласен с этим. Да я и не думал об опубликовании.
— Нет, Бора, позднее можно.
— А позднее кто поверит всему этому? Молодые нас просто не поймут. Мы покажемся им слишком наивными. Им было бы просто непонятно, почему мы с тобой считаем себя грешниками. Мы сейчас и в самом деле грешники. А может быть, и нет? — произнес я неуверенно. — Наши товарищи по борьбе осудили бы нас. Мы ведь их обманываем. Вот почему все это не для опубликования ни сейчас, ни после.
— Хорошо, оставим это пока для нас, а там посмотрим.
— Зачеркни, Весна, эту надпись. А внизу на всякий случай напиши: «Только для архива».
Весна уже приходила ко мне смелее. В наших отношениях мы становились все свободнее и старались как можно больше взять от жизни, так не похожей на войну. Но рана заживала слишком быстро. Должен признаться, я не радовался такому скорому выздоровлению.
Такая раздвоенность удаляла меня больше, чем я мог предположить, от всего, что творилось вне этого дома, от того, чем жили мои сверстники, мои товарищи по оружию. Иногда я чувствовал неловкость, на душе было тяжело. Я старался отвлечься, притупить боль, не думать ни о чем, что могло бы помешать этим минутам радости, украденной у суровой действительности. Я находил оправдание своему поведению в том, что мне пришлось пережить, и в том, что еще ждет меня. Счастье никогда не бывает полным, если приходится боязливо озираться, а со мной было именно так.
За несколько дней до того, как я встал на ноги, Глухой принес мне пачку писем, скопившихся в доме попа за все это время. Раньше он их не давал мне, чтобы я не разволновался. Писем было много, я распечатывал их одно за другим, всматривался в подписи. Читал я их до вечера, разбираясь в неразборчивых почерках, фразах без точек и запятых. Время за чтением проходило незаметно. Два письма, которые мне особенно понравились, я отложил для Весны. В одном из них говорилось о ней, о каком-то сражении, где она отличилась. Раз так пишут, значит, ничего не подозревают. Я пожалел, что девушка не здесь: из осторожности мы решили, что она сегодня не придет.
На следующий день я читал остальные. Мне попалось письмо, в котором говорилось об одной молодой паре. Поняв, о чем речь, я решил не углубляться в письмо, чтобы не узнать в нем нас двоих. Но слова письма притягивали меня и, словно нарочно, заставили остановиться как раз на том, чего я хотел избежать:
«Мы убедились, что они часто встречались тайно, искусно устраивая так, чтобы вместе идти в разведку и в деревню… Речь идет о тех двоих, которые, помнишь, подожгли танк. Ты их тогда похвалил. По-видимому, с того все и началось. Но честь отряда выше всего. Мы в недоумении, не знаем, что делать. Что, если и другие возьмут с них пример? Помочь нам может только твой совет…»
Я схватил другое письмо:
«У нас наказан боец, распространявший слух, что Бора-Испанец лечит свои раны в объятиях Весны…»
В других письмах, которые я даже не стал читать, наверняка были подобные слова. Все словно подстроено, чтобы, обвиняя других, осудить меня. Люди спрашивали моего совета и суда. Чтобы ответить, мне нужна была смелость. Я не видел пути ни вперед, ни назад, словно сорвался в какую-то глубокую пропасть, из которой не выбраться. Снова во мне столкнулись два человека, и в беспощадной борьбе одерживает верх то один, то другой.
Я должен был сделать то, чего требовал от других. К этому меня обязывали полученные письма и завоеванный здесь, на Витуне, авторитет. Мне надо было судить самого себя по тем законам, какие я применял в отношении других. Но не было сил произнести приговор.
Можно ли заставить себя перестать любить? Запретить себе? Есть ли что-нибудь тяжелее моего положения? Но на нас с Весной смотрит вся Витуна. Я не находил себе оправдания: ведь на Витуне все молоды. Каким же должно быть истинное решение в этом столкновении двух противоположных личностей? Примирения между ними быть не могло.
Мои муки, как и эти письма, по сути своей и были приговором. Но у меня не было сил сказать Весне, что мы должны пожертвовать нашей любовью ради той, другой, которой мы обязаны отдать всего себя. Я выбрал несколько писем, самых суровых, и положил их на стол. Им я предоставлю последнее слово.
Читать дальше