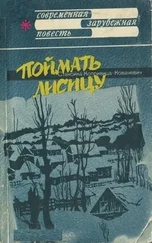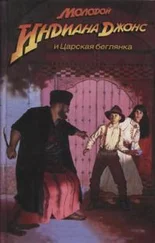Страха смерти я не чувствовал, напротив, стремился испытать его, будто он мог заглушить мои муки. Но ни бомбы, обрушившиеся на нас с неба, ни грохот окружающих Витуну неприятельских пушек не могут вызвать его. Я знаю, что такое отсутствие страха вовсе не означает истинную храбрость: это нечто совсем иное. Настоящая храбрость всегда сопровождается страхом, и величие ее в том, что она побеждает страх. Мне нечего побеждать: я не чувствую страха, поэтому моя храбрость не имеет ценности. Поэтому я и стремлюсь к опасности, чтобы испытать страх, тот тяжелый страх, в котором цена собственной жизни стала бы выше всех других ценностей и в котором растворились бы все мои страдания.
Мысль о Весне была неотделима от моего «я», постоянно жила во мне, не исчезая ни на минуту и не делая никаких уступок. И чем больше я старался отогнать от себя эту мысль, противопоставить ее той драме, какая разыгрывается на Витуне, и таким образом победить, тем навязчивее и упорнее она становилась. Но она, эта мысль, придавала мне смелость, готовила к предстоящей битве.
Каждый день становилось все тяжелее и тяжелее, но не настолько, чтобы облегчить бремя, которое я сам, по своей вине, взвалил на себя давно, а особенно в тот час, когда и мы и письма вынесли приговор. Приговор, который обязывает, но не освобождает от вины и не успокаивает.
Слушая гул орудий и скрежет машин, я вспоминаю слова Весны: она говорила, что пойдет на смерть, если кто-нибудь застанет нас в моей лазаретной комнате.
Зачем я показал ей эти письма? Я ведь мог убедить девушку, что ее появление в моей комнате ничего не означает, этого не следует пугаться. Мы же тогда не сделали ничего такого, чего надо было бояться. Я знаю, что обязан был так сказать ради Весны. Где ее застало наступление противника? Ищет ли она гибели, чтобы сдержать слово и очистить совесть, как она говорила? Она искала смерть и тогда, когда должна была доказать свою преданность нашему делу.
Никак не могу напасть на ее след и не знаю, как это сделать. Надеюсь, что Глухой знает, где она, но не решаюсь спросить его об этом. Он словно стал совсем другим человеком: держится на расстоянии. С того дня он ни разу не назвал меня по имени. Теперь я для него только командир. Слушается меня усерднее обычного, а это мне мешает. Не слышу ни одного замечания или возражения. Это меня обижает. Возможно, и Весна сейчас вела бы себя так же? Может, и она стояла бы передо мной по стойке «смирно»? А настоящий разговор с Глухим значил бы для меня много. Больше, чем когда-либо, мне сейчас нужен человек, с которым я бы мог быть откровенным. А таким человеком может быть только Глухой.
Я написал Весне письмо, написал еще тогда, в доме попа, в тот день, когда она выскочила из комнаты. Думаю, что это самое красивое письмо, когда-либо написанное мной. Но в конце его была фраза, которая сводила на нет все написанное выше: «Время — судья, которому мы должны покориться». Я не собирался отправлять это письмо Весне: просто хотелось, чтобы оно было написано. Но каждый раз, когда я встречался с Глухим, мне хотелось отдать ему письмо для Весны.
Беспокоит меня и поведение комиссара. С тех пор, как я вышел из больницы, я боюсь смотреть ему прямо в глаза, избегаю его, стараюсь не оставаться с ним наедине. Убежден, что он многое знает о моих неприятностях, и каждый раз боюсь, что он заговорит со мной об этом, как ему и положено по должности. Будь я на его месте, я сделал бы это. Хорошо помню, как однажды, прежде чем встретиться с Весной, я ощетинился на него, узнав, что его часто посещает жена. Я считал такие свидания недостойным для его положения поступком, особенно когда они старались уединиться. Помнит он это, помнит! Наверное, сейчас он выбирает подходящий момент сказать мне, что думает, сказать так, как он это умеет делать: спокойно, без драматизма, но невероятно убедительно и веско. Поэтому я избегаю его, стараясь не дать такой возможности.
Гонимый душевными страданиями, в поисках избавления от гнетущего меня бремени, я необдуманно бросаюсь в самое пекло схватки. Комиссар всегда недалеко от меня, никак не хочет оставить меня одного. Раньше этого не было. Сейчас он просто ходит за мной по пятам, словно хочет погибнуть вместе со мной. Просто чудо, как это смерть обходит навязываемую ей жертву. Два раза мне удалось оторваться от комиссара, и я попал под такой огонь, что с обеих сторон, как подкошенные, падали люди. Потом я уже не мог отделаться от него. Насколько глубоко он проник в мои намерения, говорят его слова, сказанные мне во время одного боя: «Иногда большее геройство жить, нежели геройски погибнуть. Нашей совести доверено гораздо больше жизней, чем наши две. Особенно тебе. Не всегда человек может быть праведным судьей самому себе». Больше я не избегал комиссара. Меня даже охватило желание все рассказать ему, но он, как только чувствовал, что такой момент наступает, искусно уклонялся от моей исповеди. Может, не хотел знать больше того, что знает.
Читать дальше