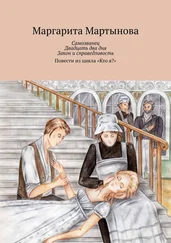Генерал посмотрел на нее с сочувствием.
— Ох, порядочно! — И тут же добавил: — Вера? — Память у него была отличная. — Куда ранена?
— Контузия.
— Ушиб головы и сотрясение мозга с потерей сознания, — вмешался Михайловский. — Трудная девица.
— Нечего меня жалеть, — продолжала Климович. — Я таскаюсь по госпиталям третью неделю. Они все преувеличивают, — кивнула она головой на Михайловского.
Генерал остановил ее:
— Как скажет медицина, тому и быть. По себе знаю, что такое контузия. Шарики вертятся не в ту сторону. — Потом сказал мягко: — С какого года на фронте?
— С февраля сорок второго.
— Я с этими, — кивнул он в сторону Вербы и Михайловского, — с первых дней войны. Кабы не они, давно гнить мне в болоте. Нет, никуда ты отсюда не пойдешь. Какой у нее срок лечения?
— Не меньше четырех недель, — ответил Верба.
— Стадо быть, тому и быть, — чуть протянул генерал. И вдруг волна грусти нахлынула на него.
Он не мог бы сказать, что с ним происходит, почему, и эта минутная слабость сердила его, ибо поддаваться ей было нельзя — не время, не место, а главное — е м у нельзя. Все, что он до сих пор делал, было связано, конечно, с боевыми действиями, с потерей людей, которую невозможно было восполнить. Он видел немало убитых солдат и офицеров — своих и врагов, но это не вызывало в нем ни ужаса, ни жалости. Риску же погибнуть самому подвергался и испытывал при этом только возбуждение — не страх. Но, бывая в госпиталях и медсанбатах, он ощущал странное и необъяснимое чувство вины перед людьми; может, потому, что некоторые из них были ровесниками его детей — дочери и сына, а другие — ровесниками его самого.
— Пошли дальше! — буркнул он. — Что? Что ты сказала?
— Говорит, что все равно убежит, — потирая нос, ответил за девушку Михайловский.
— Ого! Это еще что? — повысил голос генерал. — Знаешь, как это называется?
— Дезертирство! — хихикнув, вставил адъютант.
— Тебя не спросили! — зыркнул на него генерал. — Ты, милая барышня, трибунал захотела? — И посмотрел выразительно на Нила Федоровича. — Здесь не детский сад и не институт благородных девиц! Изволь лечиться, — отмашливо вздернул он рукой. Поискав глазами адъютанта, велел записать.
— Надоело здесь до чертиков… — Она взбила волосы, и голос ее зазвенел.
— Гм! По призыву или как?
— По доброй воле!
— И с согласия родителей, конечно?
— Я сама взрослая и отвечаю за свои поступки.
Член Военного совета фыркнул.
— Правильно! — Его губы тронула улыбка. — Но навоеваться успеешь, — притушил он голос. — Будь здорова!
И подошел ко второй шеренге.
— Какой части? — спросил он худощавого, косенького, рыжеватого ефрейтора в гипсовой повязке, которую раненые метко называли «аэроплан».
— Полевая почта номер одна тысяча сто девяносто пять, двести сороковой стрелковый полк третьей гвардейской дивизии. Гвардии ефрейтор Петровых!
— Который раз ранен?
— Третий!
— Награды имеешь?
— Обещали…
— Ну?..
— Из госпиталя куда нас, грешных, гонят? В запасной полк. А оттуда куда? Обратно на передок. Подранят — туда же, в санбат или госпиталь, оттуда в маршевую роту. Так и катаемся взад-вперед, до новой дырки.
— А как бы надо?
— Будто не знаете? — протянул ефрейтор мягким баском.
— Знал бы — не спросил.
— Я? — встрепенулся Петровых. — Я бы сделал, как у немцев. У них в этом полный порядок. Солдат, как выздоровел, должен вертаться в свою часть, потому там сподручнее, и веселее воевать, знаешь, кто сколько каши с тобой съел.
— Словом, рай, — не удержался адъютант. — Какая разница, на каком участке фронта бить противника.
— Помолчи! — оборвал его генерал. — Верно говоришь, солдат. Парень ты, видать, ершистый, сразу не заглотнешь, подавишься. На фронте давно, с какого года?
— С тридцать девятого, с финской. Под Выборгом малость контузило, а потом въехал в нонешнюю, без пересадки.
— Да… бывает, — нехотя подтвердил член Военного совета. И вновь чувство усталости охватило его. — Какое у него ранение? — обратился он к Нилу Федоровичу.
— Осколочное коленного сустава.
— Степан, — обратился генерал к адъютанту, — знаки с собой? — Протянув назад руку, он взял орден Красного Знамени и приколол его к гимнастерке ефрейтора. — Ну, кавалер, прощай…
— Обижаем мы хороших людей, — шагая рядом с генералом, заметил Самойлов. — Три-четыре раза ранят, а боевых отличий — тютю! Недавно подзывает меня один безногий, вертит самокрутку и с шуточкой ко мне: «Сколько стоит моя нога?» Говорю — не знаю… «А я вот знаю! Рублев пятьсот — шестьсот. Вернусь домой, а детишки спросят: батя, а батя, где твои награды? Сказать, что начальство не позаботилось, или соврать, что бумага не дошла до Михал Иваныча Калинина?»
Читать дальше