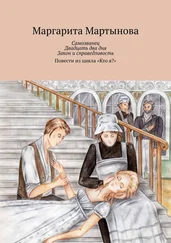Спускаясь по лестнице, генерал подозвал к себе Вербу:
— Думаю, что госпиталь здесь долго не задержится. Но сам хорошо знаешь, какие выкрутасы случаются. А сейчас иди к саперам — надо сделать для них все возможное. Долго ищут…
На площади перед госпиталем тянулась вереница въезжающих автомобилей с ранеными.
Генерал покачал головой, вскочил в «виллис», рявкнул водителю:
— Что засмотрелся? Жми вовсю!..
Жизнь возвращалась к Курту с такой быстротой, что он был даже растерян. С каждым часом его душа все больше и больше наполнялась восторгом: он словно заново родился и, как ребенок, с недоумением и ликованием открывал для себя сияние голубого неба, запахи, звуки… Короче говоря — он был счастлив. Единственно, что отравляло его существование, — это мысли о русских, о своем отношении к ним. Они спасли его, и он уже не в силах был их ненавидеть. Но как разъединить прошлое и настоящее? Это было делом нелегким и требовало большого мужества.
У Курта его не хватало. Почувствовав, что естественная ненависть проходит, он начал искусственно распалять ее в себе. Он старался выкинуть из головы все, что мешало его злобе. Он заставил себя забыть о мужестве, проявленном Михайловским. Он отыскивал в своей памяти те эпизоды, которые особенно заставляли его ненавидеть русских. То он вспоминал о потерянном отпуске домой; вместо него ему пришлось драться с «красными свиньями» под Великими Луками; то думал о товарищах по полку, убитых русскими пулями, танками, снарядами. В результате он добился своего: ненависть снова взяла верх надо всеми его чувствами. И он был рад этому: жить ненавидя было легче, да и морально проще, ибо не требовалось копаться в самом себе. Однако порой среди порывов злобы он вдруг вспоминал о героизме Михайловского. В такие моменты он возмущался собой, снова пытался возродить в себе злобу, но это не удавалось ему. Он не понимал, что именно сейчас он испытывает на прочность мораль, которой беспрекословно подчинялся многие годы. До сих пор весь его нацизм был абстрактным: он видел массы расстрелянных, повешенных, но он не входил с ними в контакт. Все завоеванные народы были для него врагами рейха, и только. Теперь он близко узнал русских. И не мог перенести абстрактную ненависть на конкретных людей. Он чувствовал, что почва уходит у него из-под ног и, как мог, сопротивлялся. Он вынашивал планы мщения русским, однако, несмотря на все усилия, даже в мыслях не мог допустить никакой кары по отношению к Михайловскому. В его жизни появился представитель «дефективной расы», которого он не мог ни оскорбить, ни унизить, который если не равен ему, арийцу, то выше его. Однако ненависть все же нашла свой выход: Курт перенес ее на своих соотечественников — Луггера и Штейнера. Вот по кому действительно плачет виселица! Предатели! Продались русским с потрохами. Думая о них, он захлебывался от гнева. От волнения у него поднялась температура, и он забылся в тяжелом сне. Ему грезился Гитлер, принимающий парад. Курт любовался фюрером. Нацистская мораль трещала в его сознании по швам, и, словно потерпевший кораблекрушение, он яростно хватался за обломки корабля, еще недавно такого прочного, но, увы, вдребезги разбившегося о неожиданно возникшую перед ним скалу.
Он очнулся, услышав гул самолетов. По звуку Курт безошибочно, определил: «мессершмитты»; завывание их моторов вселило в его душу бодрость. Он посмотрел на часы: без десяти шесть. Самое время застать русских врасплох. Курт встал с кровати и огляделся. Он был один в палате. Он понимал, что настало наконец время для совершения его личного подвига во имя немецкой нации. Он перехитрит русских! Они думают, что он боится за свою шкуру, и очень ошибаются. Да и какая жизнь без руки для двадцатидвухлетнего мужчины… Курт, шатаясь от слабости, подошел к окну и резко отодвинул черную маскировочную занавеску. Мишень для бомбардировщиков была готова, и, стоя у окна, Курт ждал разрывов, от которых помутнеет в глазах, и все они, и немцы, и русские, окажутся погребенными под грудами кирпичей и щебня. Ему сейчас хотелось только одного: встретить смерть спокойно и стойко — ведь именно так должен относиться истинный, немец к гибели во имя фюрера. И он стоял, плотно сдвинув дрожащие от слабости ноги и вытянув по шву свою единственную руку. Стиснув зубы, он начал считать. К дрожи от слабости прибавилась дрожь от страха. Все тело его теперь сотрясалось, как в лихорадке, и он, чувствуя, что сейчас упадет, схватился рукой за подоконник. Дрожащие губы скривились в улыбке: он понимал, что встретить смерть по стойке «смирно» уже не удалось. И все же он стоял и ждал.
Читать дальше