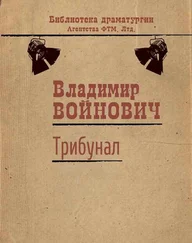Тишину нарушают выстрелы позади нас. Стреляют подоспевшие проводники собак, которые пришли в ярость при виде лежащих в снегу мертвых животных. Совершенно не обращая внимания на наш встречный огонь, они с криками бегут вперед, твердо решив отомстить за них. В живых после этой атаки остаются лишь несколько человек.
С немецко-финской стороны взлетают ракеты всех цветов. Там явно обеспокоены неистовой стрельбой на стороне русских.
Старик заряжает ракетницу. Ракета с глухим хлопком взлетает в небо, вспыхивает пятиконечной звездой, медленно опускается и гаснет над лесом.
— Дошли до своих! — устало бормочет Старик.
Мы неуверенно идем по неровной земле, оружие у нас наготове, все чувства обострены. Последний краткий отрезок пути зачастую оказывается самым опасным.
Я кубарем валюсь в соединительную траншею и вывихиваю при падении плечевой сустав. Несмотря на боль, хватаюсь за автомат. Уже случалось, что люди радостно спрыгивали в траншею противника.
Наше отделение встречается с занимающей траншею ротой финских егерей. Ее командир, молодой, худощавый старший лейтенант с Крестом Маннергейма [120] Крест Маннергейма — одна из «особых» наград финского ордена Креста Свободы. В данном случае имеется в виду Крест Маннергейма II класса — одна из самых почетных наград в финской армии. — Примеч. ред.
на шее, приветствует нас и угощает сигаретами из личного запаса. Грязный, бородатый лейтенант, с виду пятидесятилетний, хотя ему, возможно, еще нет двадцати, приносит водку и пиво.
Едва мы присели, раздаются свист и грохот, и вся позиция содрогается, будто при землетрясении.
— Народные мстители, — улыбается кавалер Креста Маннергейма, протягивая Старику бутылку водки. — Они никогда не промахиваются. В нас летит все, кроме кухонных раковин, всякий раз, когда прорывается отряд партизан.
Уже сонные, мы подходим к отведенным нам квартирам в тылу. Кто-то говорит, что для нас приготовлена сауна, но нам все равно. У нас только одно желание. Улечься спать.
Уже давно рассвело, когда наконец мы поднимаемся на свои усталые ноги. Спали мы так крепко, что не слышали воздушного налета, оставившего половину деревни в развалинах.
Порта готовит картофельное пюре с маленькими кубиками свинины. Добавляет туда масла. Это не настоящее масло, а прогорклый маргарин, но нам все равно. Мы едим, как люди, готовящиеся к семи годам голода.
Орудийная стрельба слышится далеким погромыхиванием.
— Вот так я бываю самим собой, — говорит Порта, с наслаждением потягиваясь. Живот у него выпирает, словно у беременной на девятом месяце, и его раздражает, что он больше не может проглотить ни ложки еды. Наконец-то он сыт. По горло.
— Кофе кто-нибудь хочет? — спрашивает Порта, поднимаясь на ноги.
Как только кофе готов, и мы расслабляемся в свете коптилок, распахивается дверь, и в облаке снега входит гауптфельдфебель Гофман.
— Черт, как холодно, — говорит он, согревая дыханием руки. — Найдется для меня чашка кофе?
Гофман отпивает несколько глотков и бранится, обжегши язык. Быстро оглядывает нас. Делает еще глоток. Потом достает из рукава лист бумаги и протягивает Старику.
— Выход через два часа! Вас будет прикрывать артиллерия!
Все разговоры прекращаются. Кажется, что под низким потолком комнаты пролетел ангел смерти. Мы не верим своим ушам.
Гофман, сощурясь, наблюдает за нами. Как бы случайно передвигает кобуру вперед.
— К чертовой матери! — кричит, побагровев, Порта. — Мы имеем право на два дня отдыха после полуторамесячного похода!
— Никаких прав вы не имеете, — отвечает Гофман. — Приказ пришел сверху. Оберст Хинка жаловался. И не переставал жаловаться, пока ему не пригрозили трибуналом!
— А как же отделение? У нас недостает людей! — спрашивает Старик. — Я никак не могу идти за линию фронта с девятью людьми. А мой заместитель, Барселона Блом, лежит в госпитале, у него тяжелое ранение лица!
— Об этом не беспокойся, — сухо говорит Гофман. — Армия заботится о таких вещах. Твое пополнение уже здесь. Вы будете самым смешанным отделением, какое только существовало. Среди вас будут русские, лопари и финны. Грузовики будут здесь через два часа, чтобы вы не утомлялись, они остановятся прямо у двери. Hals und Beinbruch [121] Ни пуха ни пера! (нем.). — Примеч. ред.
! — говорит он и выходит за дверь.
— Такие вещи могут заставить человека молиться, чтобы ему оторвало ногу, — кричит Порта, дрожа от ярости. — Тогда будешь уже твердо знать, что больше не придется ходить по глуши, где полно партизан.
Читать дальше