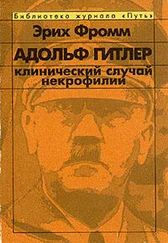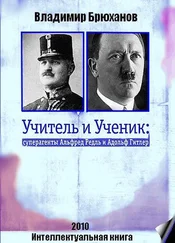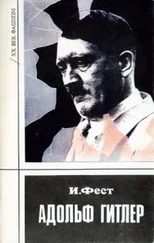Шафров ощутил как в груди у него сжалось сердце и какая-то внутренняя сила подняла с дивана. Он застыл в торжественной позе, как делал это в далекой молодости на Дворцовой площади Петрограда в военном строю, когда присягал на верность царю и Отечества. Потрясенный речью Сталина, он готов был, невзирая на свой преклонный возраст, присягать на верность Советскому отечеству. А в наушниках, словно поддерживая его торжественность, страстно звучала высокого патриотического накала песня, звавшая русских людей на бой во имя Родины. «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война».
Захваченные речью Сталина, единым порывом чувств, рядом с Шафровым стояли Марина и Марутаев.
Но была окончена песня. Марина выключила радиоприемник и в комнате воцарилась напряженная, никем не нарушаемая тишина. Каждый пребывал во власти тех чувств священной боли и гордости за Родину, которые возбудила речь Сталина.
Шафров медленно прошел через комнату, опустился на стул у празднично накрытого стола, задумался, ушел в себя. Он был потрясен политической мудростью Сталина, который в исключительно сложной для Советского Союза и Европы обстановке сумел с поразительной политической прозорливостью определить не только задачи Красной Армии, советского народа в деле уничтожения фашистских полчищ на территории своей страны, но и глазами государственного деятеля, глазами провидца заглянуть в будущее Второй мировой войны, нацелить свои войска на освобождение Европы.
— Великая освободительная миссия выпала на вашу долю, — медленно повторил Шафров слова Сталина. — Поднял на Марину и Марутаева радостный взгляд и, распаляясь благородным огнем великой гордости за русский народ, потряс над головой худым кулаком, — Какая же у Сталина вера в силу нашего отечества. Какая вера! Воистину непобедим народ русский!
— Немцы под Москвой, а Сталин говорит об освобождении Европы, — поддержал его Марутаев.
— Да, друзья мои, — живо отозвался Шафров, — Позволю себе с категоричностью утверждать, что ныне на европейском континенте нет иной силы, способной выполнить эту благородную миссию. Это может сделать лишь Советская Россия. Только ей судьбой предназначено быть спасительницей Европы от истребления Гитлером. Это… Великолепно! — задохнулся он от восторга. — О, если бы мне только дожить до этой минуты.
Молитвенно прижав ладони рук к груди, отрешенно стояла Марина у радиостанции. На ее бледном лице четко выделялись темные блестящие сухостью глаза, устремленные на отца и Марутаева, но, занятая своими переживаниями, женщина не слышала, о чем они говорят. «Смерть немецким оккупантам!» — мысленно повторяла она призыв Сталина. Этот призыв по радио она слышала и раньше, но сегодня он приобрел для нее какой-то особый смысл и она всем своим существом почувствовала, что должна подчиниться заложенной в нем покоряющей воле потому, что была русской. «Великий Боже, — прошептала она горячо и страстно. — Дай твоей дочери силы быть мужественной и смелой».
— Ты о чем это? — спросил ее Марутаев.
— Да так, о своем, — уклонилась она от ответа и предложила. — Дорогие мужчины, не пора ли нам к столу?
— О-о-о! — всплеснул руками Шафров. — И мой любимый бокал на месте! — Благодарно посмотрел на Марину, — Спасибо, милая доченька.
Марутаев наполнил бокалы. Шафров встал, посмотрел на Марину и Марутаева светлым, открытым взглядом, проникновенно сказал:
— Друзья мои, долгие годы жизни в эмиграции я не позволял отмечать в семье 7 ноября — праздник Советского Союза — и полагал, что делал правильно. Но пришло время переоценивать ценности и я позволю себе откровенно признаться вам, что жестоко ошибался, — Виновато опустил глаза, словно просил прощение за свою ошибку и несколько помолчал. Зачем тряхнул головой, будто освобождался от тяжелого груза ошибок прошлого, продолжил торжественно, дрогнувшим от волнения голосом: — Так позвольте же поднять этот бокал за праздник нашей Родины. За ее победу!
— За праздник, за победу! — в один голос с душевным волнением ответили Марина и Марутаев.
Как и надо было полагать, разговор за столом шел о войне, Москве, фашистах, оккупированной Бельгии. В то время волнений и переживаний за судьбы России и Бельгии, наконец, за свою собственную судьбу, трудно, да и невозможно было говорить о чем-то ином. Когда же праздничный семейный обед подходил к концу и наступило время подавать чай, Шафров достал портсигар, с разрешения Марины закурил и отошел к окну. Глубоко затягиваясь, он выдыхал дым в открытую форточку и о чем-то думал. Все молчали, догадываясь, что мысли каждого прикованы к Москве, заняты речью Сталина.
Читать дальше