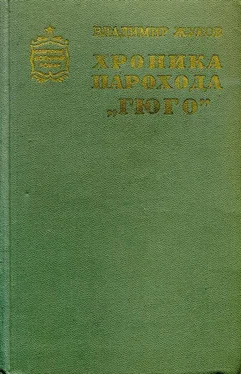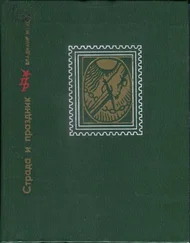Отошел к переднему обвесу мостика и уж больше не оглядывался. Слева, милях в двух, проплыла голая, лишенная растительности скала Нидзо — Камень Опасности, и это означало, что скоро самое узкое место пролива будет пройдено.
Полетаев спустился в штурманскую и, вдыхая сладковатый запах, оставленный трубкой Клинцова, внимательно просмотрел прокладку. Получалось, как в лоции: в середине пролива восточное течение прибавило «Гюго» почти пять узлов хода.
Собственно, можно было и отдохнуть, присесть, вытянуть затекшие от долгого стояния ноги, но Полетаев все же вышел на мостик и проторчал там еще битых два часа, пока на голых утесах с зубчатыми вершинами не открылся маяк Анива и навстречу пароходу не пошла крутая и валкая зыбь Охотского моря. Реут с тех пор, как исчез миноносец, наверху не появлялся, а звать его не хотелось. Да и самому ему, Полетаеву, требовалось довести до конца начатое, подтвердить (кому вот только?), что весь день главным для него было плавание через пролив. Требовалось доказать, что не зря утром было решено насчет одного намерения: «Потом».
Намерение было неспешное, вполне отодвигаемое, скажем, на завтра. Он понимал это с самого начала и, когда спускался в каюту уже с явным желанием дать себе отдых, слегка гордился собой не за то, что отложил намеченное, а за то, что вовремя расчетливым усилием воли отстал в мыслях от причины, вызвавшей его, — от письма, лежавшего в ящике стола.
«Впрочем, нет, — сказал он себе, — не сам все сделал, мне помогли. Японский миноносец».
Он принялся размышлять дальше, и у него получилось, что письмо Веры, не имевшее к нему, Полетаеву, особого отношения, полное сострадания к другим людям, все равно взволновало его лично, означало многое в его судьбе. Уже прошло немало времени, как он впервые прочел письмо, но до сих пор приходилось удерживать себя, чтобы не повторять мысленно строчку за строчкой, не радоваться без конца, что вдруг заполнилась пустота в душе, которую он ощущал полтора года. Забылось и то горькое разочарование, которое он испытал, когда пришел в домик на сопке и не застал Веру. Последние два слова письма — «просто Вера» — оборачивали все по-иному. Как будто он застал ее и говорил с ней, а после рейса снова придет и будет опять говорить, и она все поймет и все простит.
Ему вдруг стало понятно, почему он оттягивал с утра выполнение своего намерения, что дело совсем не во встреченном миноносце. Просто радость его переплеталась с горестным чувством, с той грустью, которой было полно письмо Веры, и их никак нельзя было разделить. Но тянуть больше нельзя, неразумно, и он велел вахтенному вызвать к нему Маторина.
— Помнится, в Калэме вы предлагали повесить в красном уголке портрет Щербины. Вот возьмите. — Полетаев торопливым движением, будто смущаясь немного, вытянул из ящика картон. — Фотография была с мореходной книжки, а делают увеличение скверно... Но хоть такой...
Маторин недоверчиво разглядывал портрет. Лицо его, слегка опухшее (наверное, разбудили, спал перед вахтой), с узкими щелками глаз еще хранило возбуждение от быстрого одевания, бега по трапам, стука в дверь капитанской каюты, настороженного ожидания: зачем вызвали?
— Не-е-ет, товарищ капитан, — наконец сказал он, как будто не разжимая губ. — У нас лучше есть. Я знаю, вы на рынке заказывали. Да? Там хромой этот, спекулянт. Только деньги дерет. Мы с Левашовым на Пушкинской нашли мастерскую. И карточка была хорошая — в форме. Цена тоже скажу — блок сигарет отдали... Можно, я сбегаю?
Он вернулся скоро, прямо с порога протянул такого же размера, как и у Полетаева, картон, прикрытый папиросной бумагой.
— Девчонка молоденькая на Пушкинской подрисовывает здорово... Во... Поглядите.
Из овала, слегка тесного крылатому флотскому воротнику, на Полетаева смело глянули черные глаза. В них было что-то непокорное, вызывающее, однако это ощущение пропадало, стоило лишь передвинуть линию зрения, мысленно соединить остроту зрачков с бегущим вкось краем бескозырки, с надписью на ленточке «Тихоокеанский флот», а потом и объять сразу это лицо с дрогнувшими в усмешке перед самым щелчком затвора узкими губами. Ретушер, конечно, поработал. Полетаеву показалось, что контур лица должен быть более круглым, таким он помнился ему, но, к счастью, кисть, привыкшая услужливо лгать, сильнее всего задержалась на полосках тельняшки, на звездочке, венчавшей бескозырку, — в целом все осталось похожим.
— Огородов карточку достал, — приговаривал Маторин, пока шло рассматривание портрета. — Довоенная еще. Девять на двенадцать — вот что важно. На мореходке моменталка, там никто на себя похожим не выходит, даром что документ.
Читать дальше