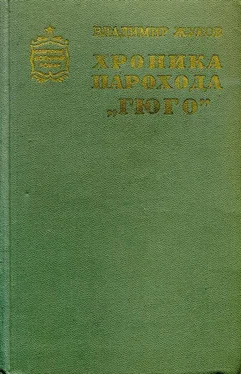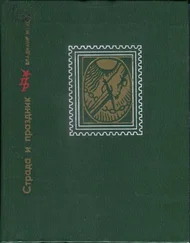— Там, вон там он; где посуше, положил.
Полисмен молчал, сердито сопел, и так же сердито чавкали по грязи его высокие, зашнурованные до колен ботинки.
То, что предстало перед нашими глазами, когда мы достигли круглого проема в насыпи, заметно удивило мотоциклиста. Он засопел громче, распрямился, как бы ожидая опасности и готовясь во всеоружии встретить ее. Но что полисмен — я был удивлен куда больше.
Светлый бетон отражал скупое еще освещение утра, и от этого на редкость все хорошо можно было разглядеть: галстук, скрученный в жгут, которым были накрест связаны Федькины руки, мой ремень, новый, желтой свиной кожи, кольцами охвативший ноги, обутые в коричневые штиблеты, тоже новые, с еще не сбитыми каблуками, только грязные теперь, промокшие, — все это было на месте, как тогда, когда я ушел отсюда наверх, на шоссе; вот только тогда Жогов, бежавший с парохода и вроде бы даже убитый мной, еще в темноте, вон там на опушке, и потом оставленный в трубе лежащим ничком, с крепко сомкнутыми веками, этот Жогов теперь сидел на корточках, забравшись повыше на покатый изгиб бетона, подальше от журчащего, уже бурно лившегося ручья, и спокойно, даже испытующе глядел на нас — меня и полисмена, — выставив вперед связанные руки, будто давая им отдохнуть.
— А почему он связан? — спросил полисмен, нарушив наконец долгое, общее молчание.
— Он же болен, я говорил. У него был припадок. Шизофрения.
Я начал для понятливости дергаться, гримасничать, как в конвульсии, дрыгать руками и ногами, надеясь, что полисмен хоть так поймет меня, потому что свой диагноз мнимой Федькиной болезни я излагал по-русски.
— Продал, сука, — тихо сказал Жогов, когда я прекратил гримасничать, и посмотрел на меня — удивительно! — грустно, а не зло, даже равнодушно. — Ни себе, ни другим.
— Молчи, — сказал я. — Лучше молчи.
— А тебе в гробу... лучше. — Он усмехнулся слабо, как бы для самого себя. Потом вскинул голову и фальцетом выкрикнул по-английски: — Врет он! Врет он! Я здоров!
Полисмен посмотрел на него, потом на меня, и я быстро приставил к виску палец, выразительно забуравил им.
— Он опасен, я еле справился с ним.
— О’кэй, — сказал мотоциклист.
— Я требую медицинской помощи, — снова по-английски выкрикнул Жогов. — Я ранен!
За делами я как-то даже забыл о нанесенной мной Федьке ране и теперь увидел, что рубашка у него под смятым, растерзанным воротником красная, но на шее все засохло, шея была темной, как бы запачканной. Полисмен ступил на бетон, наклонился, всматриваясь в затылок, который Жогов в яростной угодливости подставлял ему, и обернулся ко мне:
— Наверху. — Потом Федьке: — О’кэй, наверху! — И вышел из трубы, ступив прямо в пенистый, растекающийся по камням поток.
Он отошел от основания насыпи на травянистый склон и, сложив руки рупором, крикнул своему напарнику — что именно, я не разобрал, только уловил, что речь идет об автомобиле. Другой полисмен тотчас отозвался, сказал, что все в порядке, он уже вызвал, и я вспомнил качающиеся хлысты антенн на мотоциклах — тот, другой, наверное, связался со своим начальством по радио.
— Ну пошли! — сказал мне полисмен и вошел обратно в трубу, опять шлепая по ручью, как бы не замечая его, и, наклонившись, обхватил Жогова за плечи, а потом показал мне взглядом, чтобы я брал за ноги, спутанные ремнем.
— Сволочь! — сказал Федька и брыкнул меня. — Ты еще вспомнишь!
Он и потом брыкался, пока мы волокли его, обходя кругом насыпь. Идти было далеко, а, полисмен пер, как нанятый, я не поспевал за ним и все соображал тревожно, что будет дальше.
Дождь не переставал. Мне уже казалось, что я ступаю просто по воде — до того промокли ботинки и вообще все на мне, и зубы начали стучать, даже быстрая ходьба не согревала.
Так мы протопали, наверное, с полкилометра, пока насыпь не кончилась, и вышли на бетонку. Вдалеке виднелись мотоциклы, фигурка полисмена и еще черный автомобиль. Он подкатил минуты через две, не развернувшись, задом, весело посверкивая стоп-огоньками, ненужными уже в развидневшемся, хоть и хмуром утре.
Это была обычная легковая машина, только из переднего крыла у нее торчала высокая, иглой, антенна и на дверце было написано: «Полис». Водитель в форменной фуражке высунул голову из окна и что-то приветливо сказал моему полисмену, и тот тоже приветливо отозвался, потом изловчился и одной рукой распахнул дверцу, подхватил Федьку и аккуратно задвинул на сиденье. Влез сам, что-то делал, стянув с рук коричневые, намокшие на дожде краги, и наконец позвал меня.
Читать дальше