— Врешь! — кричал Семен. — Были указания.
Увидев Никифора, Юлий Васильевич стал поправлять изголовье, ворошил долго старую шубу, но все-таки лег, уступил жизни. «Да и как не уступишь, — вздыхал Никифор, — коли не дает она никакова выбора».
— Не колдуй у порога! — зашумел на него Семен. — Говори слова в полную силу, чтобы слышно было.
— Про жизнь я думаю, Сеня. Дерзкая она, выбора не дает человеку.
— И выбирать нечево! Бороться надо за счастье рабочих и бедных крестьян.
— Скорее, за счастье людей, — подсказал Юлий Васильевич.
— Ты про Колчака расскажи! — закричал Семен на офицера. — Про ставленника. Какой он добрый да ласковый!
— Гражданская война рождена ненавистью, молодой человек.
— Ненавидь, твое дело. А зачем красноармейцам руки ломать и тело резать? Глаза выкалывают, сволочи! На части мелкие рвут. Матвея, тять, помнишь? На каторге мужик был, все казематы прошел. А что говорил? Ненависть, говорил, наша святая, мы и в ненависти люди, а не звери алчные.
— Таких, как Матвей Филиппович, немного, — сказал Никифор, — по нему мерять людей нельзя. — И предложил поесть, пока сумерки не густы.
— Поесть можно, — согласился Семен. — Только несерьезная пища булиён твой. Наскрозь проходит, в брюхе не задерживается.
— Зато наварист, больному да хворому лучшая еда, — защищал птичий суп Никифор, а сам думал, что булиёном одним не прокормишься, за сохатыми надо идти.
Добыл он из печки суп, налил в чашки. Одну оставил Юлию Васильевичу, а с другой пошел к Семену. Подавая ему чашку, спросил, не болит ли рана?
— Нет, вроде. А чую, тять, шевелится в ней мохнатый зверек. Смешно даже, щекотно.
— Значит, мясом живым обрастает. Сейчас еда главное, всем лекарствам начальник! Надумал я, Сенюшка, в лес сбегать.
Никифор сел на кровать, обнял сына легонько — за день, сказал, обернусь. Не сумлевайся. Дорога известная. До Чучканских болот логами все, нигде ветром не хватит, а там рукой подать.
Семен дохлебывал суп, стучал ложкой.
— Бывал я в тех местах, Сеня. Внизу осинник мелкий, сосняки по угорам.
— Потемки надоели, тять, пятый день лежу, а луны нет. Куда она, к черту, девалась?
Никифор промолчал — счастливому да здоровому, думал, луна ни к чему, а хворому, несчастному, все не так. И солнце не в меру горячее, и дождь чересчур мокрый. Александра, бывало, к столу с книжкой сядет и читает сердито, как в других землях люди живут, едят часто, но помалу, и женщин уважают…
— Уснул, тять?
— Старое вспомнил. Мамка твоя любила книжки читать, мелко написанные. Зима, бывало, на улице, ночь ветреная, в трубе нечисть копошится и воет.
— Темный ты, тять. Неграмотный. По законам природы щели в трубе имеются. Ветер норовит в щели пролезть, оттово и вой происходит. Но днем веселее. Помню, венгерца ранили под Шишами. Деревня такая есть, на горе стоит. Перевязываю венгерца, а он кричит: «Утро давай, товарищ! Не хочу ночь!»
— И я замечал, Сеня. Хоть неминуема ночь и известна всем с малого возраста, а не привыкли к ней люди.
— Ну, и черт с ней!
— Не скажи, Сеня. И без ночи нельзя. Отдыхает человек ночью, силу копит, чтобы дальше жить.
Замолчал Семен, спать, видно, захотел. Собрал Никифор посуду, унес к печке, но мыть не стал, у шестка топтался — в сиротские зимы, думал, сохатые неподалеку, на Безымянке кормились, а нынче студено…
— Не спишь, офицер? Ответь: за какие провинности мобилизованных обозных мужиков белые расстреливают?
— Я не расстреливал.
— Неизвестно!
— Пискуна, Сеня, помнишь? — спросил сына Никифор. — Вынянчил он тебя, можно сказать.
— А мамка?
— Мамка, само собой. Она родительница. А Пискун, то исть Куприян Лукич, чужой. Он тебе песню пел про Казань-город. Одна была песня у Куприяна…
— Комиссаром мог быть, — сказал Юлий Васильевич, посмеиваясь.
— Объясни, контра, свое рассуждение! — потребовал Семен.
— Зачем же так! Бестолково и грубо…
— Слышишь, тять, как офицер заговорил!
— Господа, Сеня, к мягким словам привыкли. Обходительность любят. В малолетстве ты неспокойным был, ревел часто. Куприян Лукич, бывало, возьмет тебя на руки и поет, как гуляет хмель по татарскому базару, выхваляется, что все его, хмеля, любят и почитают, свадьбы без него не играют, мужики без него не дерутся…
— Песни, тять, не рассказывают.
— Так оно, — согласился Никифор. — Только не мастак я петь, фальшь получится.
— А ты помычи сначала, изнутри распойся. Я бы послушал, тоскливо лежать.
Вздохнул Никифор, подумал — придется петь, а то опять спорить начнут, правдой друг друга колоть, как вилами.
Читать дальше
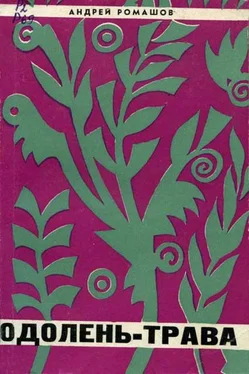
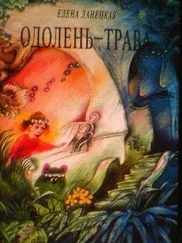



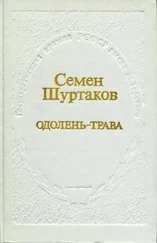
![Андрей Ромашов - Земля для всех [Повесть]](/books/409085/andrej-romashov-zemlya-dlya-vseh-povest-thumb.webp)

