От большаковских амбаров свернули в проулок.
У крыльца жеребец встал как вкопанный и оглянулся на хозяина — приехали, дескать, команду давай Авдотье, чтобы ворота открывала.
Никифор вылез из кошевы, размял затекшие ноги и хотел бежать за лыжами, но Сафрон Пантелеевич отговорил — никуда, сказал, лыжи твои не денутся, заходи сперва в избу, потолкуем. Отказаться он не посмел, зашел и, не раздеваясь, сел у порога.
Авдотья из кухни выплыла, посочувствовала, что сыро на улице и ветрено, неровен час, простудиться можно. А про дочь спросить не успела… Пришел Сафрон Пантелеевич, пригласил Никифора в горницу и усадил за стол — пей и ешь, сказал, вволю и тоску холостяцкую забывай, скоро хозяином станешь, корову вам даю, всего два раза телилась.
Никифор к столу сел, но пил осторожно — вечер на улице и погода пасмурная, слепая ночь будет, как домой добираться? Хозяин его не неволил, но сам пил без меры и хвастал, что у невесты шесть платьев городских, два пальто и шуба, почти ею не ношенная.
Авдотья поставила закуску на стол и запричитала — уж мы ли дите свое не баловали, не поили, не кормили сладко, бесстыдницу. Сафрон Пантелеевич опять за штоф взялся — за блуд, сказал, сам рассчитывайся, только смертным боем не бей, баба хворая — не работница.
Авдотья на кухню ушла и оттуда кричала — учи ее, бесстыжую, не бойся, кость живая мясом обрастет. Добила она Никифора, заревел он, стал богу жаловаться на страшную жизнь. Сафрон Пантелеевич стул отбросил и в пляс пустился — черти, орал, в бане табак толкли, угорели, под полок легли, эх, калина моя и рябина моя, красна ягода…
Ушел Никифор от них, не простясь. До конторы чуть не бегом бежал, схватил лыжи и в гору. Только в лесу успокоился. Елки стояли тихие, думать не мешали. Говорил Захарий ему, чтобы не лез к людям, обходил село стороной. А как без людей, без Александры? Большое счастье в руки плывет, не возьмешь — другие ухватятся.
Так и шел, с Захарием спорил, всю ночь шел, к рассвету до дому добрался. Пискун уже встал, печку растапливал, увидев его, спросил: с чем пришел, пустой или с угощением? Рассказал Никифор все как было. Пискун не поверил, дескать, не может того быть, чтобы Сафрон Пантелеевич на рукобитье упился до полного беспамятства. Никифор и про себя сказал, дескать, тоже не лучше был — ревел и на жизнь богу жаловался. Пискун одно твердил — серебро требуй с антихриста, чтобы с царским ликом было, хоть и меди в нем добрая половина, но в кабаке примут.
Весна подступила к избушке. Пискун отогрелся на солнышке, на болезни не жаловался, но говорил много и громко, ругал чиновных и богатых, которых держать надо в страхе, стрелять в них из пистолетов и вилами колоть.
Слушал Никифор, а душа о другом болела — узнал он, что родила Александра в ночь на Благовещенье мальчика…
Вышел Никифор на свадьбу в глухую полночь, днем мокро было в лесу, а в иных местах и совсем не пройти. На мысу солнышка ждал, птиц слушал — у них тоже свадьбы. Не ко времени Захария вспомнил. Любил птиц Захарий, хвалил их, что живут они без зависти и в простых желаниях.
Заревела скотина в селе, бабы вышли на улицу. Пора и ему в село спускаться, но мимо лесничества идти не хотелось, уж лучше в обход, коровьими тропами да вересниками. Смешно и стыдно сказать, пробирался он на свадьбу свою через гумна и огороды, как разбойник какой.
Сафрон Пантелеевич на крыльце стоял в распахнутой шубе, увидев его, обрадовался — жениху, заорал, слава и честь, лети, парень, в избу, знакомься с отцом посаженым.
Хозяйка завела Никифора в горницу и уплыла на кухню «бабами командовать».
Сидел в горнице один Герасим Степанович, по-городскому закусывал. Никифор поздоровался с ним. Писарь ткнул вилкой в тарелку с рыжиками и промахнулся, поднял пустую вилку над столом и стал объяснять — на какую он, Никифор, теперя ступень встает и что из всего етого должно последовать. А последовать должно, толковал ему писарь, изменение в жизни…
Не в уме было, не в разуме — запели бабы на кухне — красной девке возамуж идти; возамуж идти, горе мыкати; горе мыкати, слезно плакати.
Бабы пели, Герасим Степанович мелкие рыжики в тарелке ловил…
Еще перед свадьбой решил Никифор всех слушаться, никому не перечить, а все же неловко — будто чужой он тут, всему посторонний. Отца ему выбрали, сына окрестили, может, и Александру без него в церковь повезут.
Горькие думы Сафрон Пантелеевич прогнал, с вином к нему подошел — выпей, сказал, для храбрости, поп не осудит, свадьба у нас особенная, не той ногой ступишь, всю жизнь каяться будешь. Значит, слушай: в церковь поедет с тобой Герасим Степанович, на другой лошади повезем Александру, вот кольца, отцу Андрею отдашь после благословения.
Читать дальше
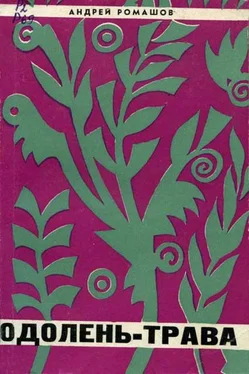
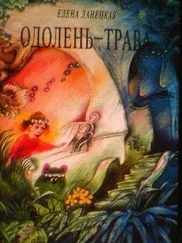



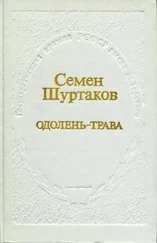
![Андрей Ромашов - Земля для всех [Повесть]](/books/409085/andrej-romashov-zemlya-dlya-vseh-povest-thumb.webp)

