Солдаты шли к ней, отмахиваясь от адъютанта, тот что-то невнятно говорил, показывая глазами на хату и приставляя толстый палец к малюсенькому рту, как ребенок с соской. Немцы выросли над Сашей.
— Вег!
Она продолжала сидеть, снизу, исподлобья глядя в одно и другое лицо, силясь найти в них хоть что-то, что помогло бы ей спастись от угрозы, и в то же время видя, как к немцам подходят мать с дедом. Слух ее был отбит, она не улавливала их голосов, лишь видела шевелящиеся, выбеленные страхом губы.
— Вег! Вег! — нависали над ней солдаты.
Пелагея рванула за руку дочь, потащила в сарай. Рябко вскочил, недовольный. Саша зачем-то упиралась, не шла, и наконец вырвалась из рук матери, встала набычившись. Слух снова вернулся, и с поразительной ясностью в ней запечатлевалось все, что делали солдаты. Один с ребячески азартным выражением лица подвернул Рябко ногу, навалился На него, почти сплющив худенькое тельце, задушив недовольный визг. Второй присел рядом, спокойно вынул нож из поясного чехла и, тихо ворча, видимо, призывая приятеля быть посерьезнее, подвигал его, чтобы освободить нужное место. В это место, под переднюю ногу Рябко, он ударил коротко и сильно.
Кровь прыснула. И тут же из-под немца протиснулся дикий крик. Рябко почему-то не умирал. Неимоверным усилием он выпростал морду, зубы были оскалены, и сквозь них вырывался ни на что не похожий страшный звук. Тот, с ножом, побелел, видно, ничего не мог понять: крик Рябко был неожидан, нелеп, тем более дик вблизи глухо молчавшей хаты с Герром внутри. Адъютант, растерянно топчась, с ужасом водил глазами на дверь. Немец, теперь уже с размаху, вторично всадил в Рябко нож. Крик перешел в какое-то невообразимое завывание и, к бешеной досаде солдата, никак не стихал. Он ударил в третий раз — и вновь безрезультатно. Рябко кричал и кричал.
За эту минуту, с жестокой четкостью воспринимая каждую подробность — до страдальчески заведенных глаз Рябко, до дрожащей, мосластой, меловой от напряжения руки немца с зажатым ножом, с дорожки которого на белую руку стекала светлая на солнце кровь, — за эти мучительно длящиеся мгновения девочка успела прожить целую жизнь. Проходя сквозь отключившееся сознание, что-то отложилось в ней тяжелым слитком. И тогда новый крик ожег ее: это кричал Герр, застывший без френча, в прорезанной помочами расстегнутой белой рубашке у двери хаты. Оба солдата вскочили, вскинув подбородки, повернули лица, и адъютант тоже, к Герру.
В это же время Саша увидела другое — как поднялся на ноги Рябко, стоял, нагнув голову, тягуче завывая, покачивался грязным, опавшим от выпущенной крови тельцем. К нему подходил дед Трофим с осененными какой-то единственно ему отведенной миссией глазами, стрелки бровей не пересекали их, и крестьянская чернота лица была высветлена изнутри все той же движущей дедом идеей. Солдаты попятились от него, словно в минуту шедшего к ним суда, и комендант смолк. Дед Трофим, как в праздник или как перед смертью, был одет в чистую холщовую, скупо вышитую рубаху.
Он присел перед Рябко, стал уговаривать его, как ребенка, будто укладывал спать, и тот, по-детски плача, послушался, лег. Тяжелая, в старых мозолях и шрамах ладонь деда, положенная на Рябко, что-то искала в нем, прослушивала, медленно шла к самому горлу, где светился не испятнанный кровью островок, и именно здесь дед Трофим нашел то, что искал. Он помедлил, чтобы не ошибиться, но, видно, в содрогающемся теле Рябко все же угадывалось живое биение — не там, куда бил немец, а здесь, под самым горлышком. Дед Трофим придержал ороговелым, бурым от самосада пальцем какую-то точку, и Саша все поняла, когда он другой рукой вытянул из-за истертого голенища козлового сапога длинную, плавно сужающуюся швайку.
Она еще успела увидеть, как легко, почти без нажима вошло в Рябко острое плосковатое жало — крик мгновенно оборвался. Только тогда в оглушительной тишине на нее стал опрокидываться курящийся солнцем двор с дедом Трофимом, который выбирал место почище, куда положить Рябко, с кинувшейся к дочери, чтобы уберечь от падения, матерью, с солдатами, с Герром, передергивающимся в мучительной, будто его тошнило, гримасе. И больше ничего не было в хлынувшей мгле.
Возвращение из забытья длилось медленно, тяжело. Очнувшись, девочка ощутила какую-то безмерную сломленность, как будто прошла через страшные жернова. Но это было даже не первое ощущение. Сначала, когда сознание затеплилось в ней, вместе с пережитым кошмаром, о котором ей мучительно не хотелось думать, она что-то почувствовала на своем лице, какой-то сырой стягивающий холодок. Ноздри ей защекотал полузабытый сенной запах, и вместе с ним, тоже словно из детства, возникла мать, возникло ее лицо, с неизъяснимой определенностью повторяющее лицо бабушки и тем еще более дорогое. Мать уловила этот момент, губы у нее задрожали.
Читать дальше
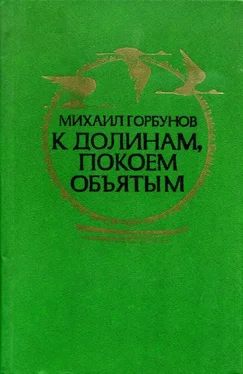


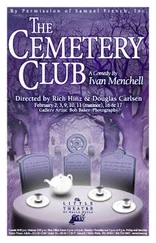
![Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]](/books/202576/mihail-gorbunov-belye-pticy-vdali-roman-rasskazy-thumb.webp)





