Это была не та бабка Ворониха, которую побаивались на селе, и тем более не та, из-за которой, как петухи, сшибались парни… И время было не то: уже текли, переходя изо дня в день, мутные сумерки немецкого пришествия. Только-только по черной, скользкой дорожной тверди отнесли бабушку на погост. Там голые прутья верб, тонко посвистывая, взвивались в быстро и устрашающе бегущее небо, кропили холодной моросью впервые ушедшее в себя от людей мягонькое бабушкино лицо, и Пелагея отирала его платочком… Да, время было не то. И только горшочек с вареными кислицами был тот самый, который упоминался по неисчислимым поводам в разговорах сельчан.
Ну, скажем, кто-то чем-то крайне недоволен и соответственно выражает это на лице — тогда, вполне вероятно, он услышит:
— Скривился, как от кислиц бабки Воронихи!
Или кто-то чего-то добивается, причем гнет явно не по себе, — ему не преминут ввернуть:
— А кислиц бабки Воронихи не хочешь?
Она и по сию пору стояла в конце сада бабки Воронихи, густо родящая груша-кислица, да кому теперь радости от тех кислиц. А бывало, молодая красивая женщина сложит груши в горшочек да истомит в печи, они набухнут острым сладким соком, всего-то чуть «с кваском». И бывало, не знал в них отказа, любил полакомиться дед Трофим, тогда еще вольный парубок. А вон как все вышло: кислицы и остались кислицами на многие годы…
Снежок, раньше такой желанный, пропорхнул меж хат, напомнив, что впереди долгая, трудная зима. Сороковой день справляли по бабушке. Тогда и вошла во двор бабка Ворониха, выпрастывая из-под черного платка горшочек, легко узнанный дедом Трофимом. Он поднял глаза к водянистому пустому небу, завыл, как волк. Но горшочек принял из рук Воронихи, держал так, будто отогревался. Пелагея ничего не сказала пришелице, мирящая сень легла на двор, и все пошли в сарай поминать бабушку.
Вот этот горшочек и светил Саше, когда тьма чужого страшного насилия застилала ей глаза.
Неожиданно исчез Герр. Что-то крылось за внезапностью его отъезда, за воцарившейся на подворье тишиной, за потерянностью не знавшего куда себя деть адъютанта. Напряжение, невольно передавшееся всему селу, как бы вибрировавшее неуловимым звуком в ясном, еще не остывшем осеннем небе, было выше сил адъютанта, и он, выдавая строгую тайну и, может быть, ужасаясь тому, что делает, отрывочно рассказал Саше, что при бомбежке англичанами Мюнхена погибла вся семья коменданта.
В голове у Саши застучало молотом, и она переспросила — как ниточку, сдуваемую ветром, ловила.
— И она? — Показала глазами на хату.
Полное лицо адъютанта сморщилось, он закрыл глаза, девочка увидела бесформенную серую маску.
— Жена и дети. Три мальчика. Безвинные ангелы. Теперь они высоко-высоко… Боже мой, почему мы в самом начале не прикончили англичан?! Мы могли бы разорвать их проклятый остров на клочки. Потопить в море, как старую галошу! Такая большая скорбь! Божья матерь с тремя ангелами. Он безутешен. — Последние слова касались Герра.
Саша пыталась понять, о чем говорит адъютант, но фразы никак не складывались во что-то определенное, прыгали в мозгу, и наконец голову ей до краев наполнило властное желание увидеть портрет немки. Она закаменела от этой мысли, все время до приезда Герра как бы играла с адъютантом в прятки, петляла около хаты, около окошка, в которое можно было заглянуть с завалинки. Дед Трофим с Пелагеей, узнав о случившемся, с опаской ждали возвращения коменданта, как будто оно могло разрушить долго, по мучительным частичкам складывавшуюся надежду на приход своих, уже совсем близкий. Проклинали смутно представляемых англичан, которые вроде как испортили все дело. В одну Сашу вселился какой-то вихрь готовности ко всему, и она терпеливо ждала своего часа. Ей удалось подстеречь минуту, когда адъютанта срочно вызвали в комендатуру, видимо, были какие-то сведения от Герра из Германии. Стоило стукнуть калитке, затихнуть шагам адъютанта, как Саша была уже на завалинке. Она приникла к темному стеклу и увидела портрет, но очень неразборчиво, ее поразила лишь широкая черная лента, накинутая на раму, как накидывают рушник на икону. В эту минуту кто-то сорвал ее с завалинки. Это был дед Трофим.
— Уйди от греха, Лександра! — свирепо шептал он ей; как всегда в минуты волнения, острые пики бровей топорщились, перерезая сощуренные глаза.
Но в тот же день Саша все-таки увидела портрет.
Адъютанта вызывали затем, чтобы сообщить: завтра прибывает хозяин, и это известие вывело его наконец из шока. Он бегал по двору, отдавая команды притихшим деду Трофиму и Пелагее. Саша должна была произвести генеральную уборку в хате. Ее била лихорадка до самой минуты, когда она встала с тряпкой и ведром в двери горницы, будто натолкнувшись на черные, никуда не отпускающие зрачки. Она не знала, сколько стояла так под гипнотическим сознанием того, что этой надменной женщины с пышными волосами уже нет на свете. Но странно: в мертвящей глубине неподвижных зрачков, которая так давила Сашу, теперь, когда женщина была действительно мертва, прошло медленное, как первая зимняя оттепель, живое движение.
Читать дальше
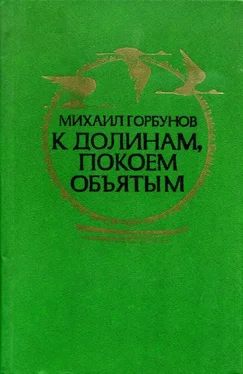


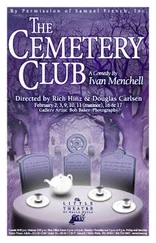
![Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]](/books/202576/mihail-gorbunov-belye-pticy-vdali-roman-rasskazy-thumb.webp)





