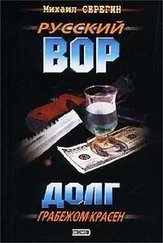ВСЕРОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА «МУЖЕСТВО»
издается по решению коллегии Госкомиздата РСФСР для строителей Байкало-Амурской магистрали и тружеников ударных строек Сибири и Дальнего Востока
Жене Галине Константиновне
Пробиться в годы, в грозы и в цветы,
Как в детстве,
С дремным солнышком проснуться.
И все найти.
И тихо прикоснуться
К истокам чистоты и доброты.
И все принять, чему начертан срок, —
Для нового деянья и прозренья.
Мой поздний час,
Тебе благодаренье,
Что снова утро всходит на порог.
Сколько она шла, столько в зеленом морожке, еще не запорошенном пылью с обсохшего от весны шляха, назойливо пестрели одуванчики и курослеп — желтые цветы разлуки. Ее много раз обгоняли подводы на конях и волах, ехали в Киев, но, видно, всё куркули, всё с мешками да мешками, и у нее не поворачивался язык попросить, чтоб подвезли. Поля, вбирая в себя летний жар, струили к солнцу зыбкую влагу, и далекие холмы, на которых, она знала, стоял город, были отъединены от земли реками расплавленной сини и потому казались еще более далекими, недоступными; они уходили и уходили по мере ее движения к ним, и только крайняя нужда влекла ее дальше, не давала вовсе помутиться наполненной зноем голове. На ней был темный сак с белесыми от времени, от крестьянского пота пятнами на еще хранивших молодую округлость плечах и спине; бо́льшую часть пути она шла босой, старые ее чоботы лежали в перерезавшей руку корзине вместе с краюхой хлеба и стираным детским тряпьем, а самое ее дитя обвисло, покачивалось в связанных концах тоже потерявшего цвет платка. Майский зной сморил ребенка, он забылся, как в зыбке, от долгих покачиваний, и женщина вглядывалась в его личико: господи, жив ли.
Когда голод будил ребенка, она сворачивала с дороги, ставила корзину и сама тяжело опускалась в траву. Набитые по шляху ноги поламывало и саднило, она вспоминала о чоботах, но жалела их, решала, что накрутит онучи и обуется перед самым городом. Ребенок, освобожденный от ряденца и от платочка, сидел в льняной, стираной-перестиранной сорочке, тер глаза кулачками спросонку, и у женщины обливалось болью сердце… Доню, доню моя! Побегать бы тебе в зеленом шелковом морожке, средь весенних цветов, да ты ж на ноги упала… За что покарал господь, за что послал матери такую муку, что не бегают у ее дони ноженьки!..
Она глядела сквозь наплывавшие слезы, и чудился ей золотой венок, обвивший пунцовое от зноя детское личико, ангелок, безвинный ангелок сидит на травке, и она вновь и вновь думала, что господь покарал ее за грех, и рассудок не мог побороть эту мысль…
Вздыхая, женщина вынимала из корзины початую краюху, выцарапывала мякиш — от сладкого ржаного запаха ее резало внутри, — растеребливала над глиняной чашкой хлебный слепок, заливала водой из теплой бутылки, — ешь, моя доню. Она и себе отламывала кусок, посыпала солью и ела, смачивая горло из той же бутылки. Резь в животе ослабевала, на нее наваливалась тяжелая сонная одурь, голова падала на грудь, и девочка, пугаясь обступившего ее безмолвия, елозила по материнским вытянутым ногам, повторяя и повторяя одно, уже давшееся ей слово…
Женщина вскидывала голову, ловила руками ребенка, прижимала к себе: ей привиделся сон, в котором тоже было мертвое безмолвие. На минуту она забывала обо всем на свете, голова ее кружилась от острого запаха травы, земли, от пения ушедшего в небо жаворонка, глаза прояснялись, пока снова к ней не проламывалась ее постоянная тоска, и все обрывалось, тускнело, глохло… Сознание греха возвращалось, она сажала девочку к себе на колени, гладила и гладила ее ножонки, будто хотела пробудить в них жизнь, без всякой надежды вымаливая прощение. Дочь отзывалась на ее осторожную ласку, на молитвенно тихие касания ее рук, тоже ждала какого-то чуда, и мать больше не могла обманывать ее. Она дожевывала оставшиеся крохи, завязывала в тряпочку бурую, клейкую кашицу, чтоб ребенок сосал в дороге «куклу» и не плакал… И снова перед ней брезжили далекие синие холмы, и она шла к ним, погруженная в свою тоску и свою память.
Читать дальше

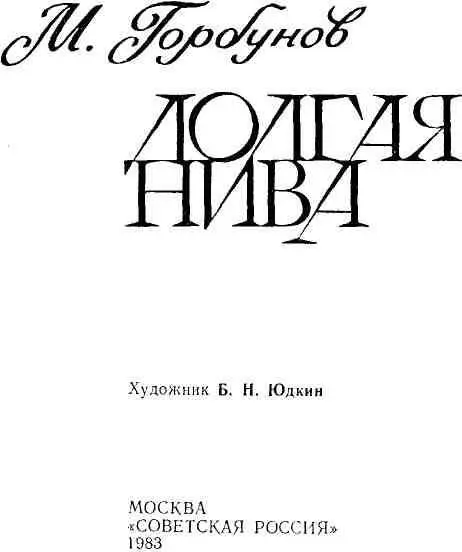





![Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]](/books/202576/mihail-gorbunov-belye-pticy-vdali-roman-rasskazy-thumb.webp)