На ступенях, еще не поднявшись к Вечному огню, топталась группка ребятишек, таких же малышей, как Манечка, с молоденькой, скромно, в плащике из болоньи, одетой учительницей, а может, и воспитательницей из детского сада. К чему-то они готовились, к какому-то действу, — выяснилось, учительница из подмосковного села решила в торжественной обстановке, у Вечного огня загодя провести прием в октябрята своих будущих учеников. «Потом не выберешься, — объяснила она молодому, видно, очень любящему порядок милиционеру. — Да и не пробьешься: со всех школ потянутся. А так и Москву посмотрят, и в памяти на всю жизнь этот день у них останется».
Манечка смотрела на ребят с невыразимой завистью, и Говоров еще ничего не успел сообразить, как Ирина Михайловна уже беседовала с учительницей или воспитательницей, прикладывая руки к груди, слезно прося о чем-то. Та чуть ли не с испугом смотрела на Ирину Михайловну, но потом, будто сделала веселое открытие, бесшабашно кивнула головой, и Манечка, которую подзывали обе женщины, вздрогнула, с трудом поверив в счастье, покраснела до ушей и зашлепала по гранитным плитам к ребятишкам, уже выстраивавшимся перед Вечным огнем.
Манечка оказалась на самом краю жиденькой цепочки ребятишек — то ли из-за невзрачного росточка, то ли как «приблудная». Но она тут же освоилась, замерла вместе со всеми по стойке «смирно» — несомненно, сработал воспитанный круглосуткой коллективистский дух. Приведшая ребятишек совсем молоденькая, энергичная девушка с привычно воодушевившимся лицом стала не совсем громко, чтобы не потревожить будто влитую в хрупкий сосуд тишину и печаль, выкрикивать слова клятвы, а разношерстно одетая цепочка со старанием и убежденностью повторяла их.
Потом началось прикалывание октябрятских звездочек, и Говорову было видно, как напряглась Манечка, как уши встали у нее торчком, засветились фонариками, и Говоров понимал ее: достанется ли ей звездочка, или это был пустой спектакль, обман? Ему было и смешно, и жалко Манечку, и рождалось чистое успокоительное чувство приятия этого нехитрого церемониала, этой наивной детской веры, что-то восполнявшей в нем самом.
К счастью, звездочка нашлась и для Манечки. Она нетерпеливо перебирала ногами, когда ее ей прикалывали, и только прозвучала команда, нечто вроде армейского «разойдись», как Манечка, спрыгивая со ступенек, кинулась к Ирине Михайловне и Говорову, но больше все-таки к Ирине Михайловне, а та обеспокоенно «подправляла» ее, подталкивала: «Дедушке покажи, дедушке…» — и смутно прошла в его памяти сцена на вокзале, в утро приезда Манечки.
Небо сеяло мельчайшую водяную пыль. Но цвета необычно сгустились, и красный гранит Мавзолея был как бы нагрет изнутри, строгие, крайне простой формы камни дышали жаром, создавалось ощущение твердыни, где царит бесконечная человеческая жизнь. Ощущение живого Ленина каждый раз с загадочной щемящей властью возникало в Говорове, когда он бывал здесь. Время пропадало совсем или было беспредельно и напоминало о себе лишь неожиданной падающей с грани на грань мелодией курантов и сменой караула у двери, за которой в тайной глубине жил неумирающий ни для одного поколения человек. Наверное, Ирина Михайловна с Манечкой испытывали сейчас то же самое, они стояли молча, какая-то гипнотическая сила заставляла их стоять и стоять перед приземистой светящейся красно-черной пирамидой, возле которой уходит прочь все грошовое и пустячное и душа наполняется теплом священного камня.
А Говорову вдруг вспомнился Мавзолей, сиротливо стоящий под ноябрьским снегопадом сорок первого года. Тогда он был виден ему издали, из тесноты не по-парадному идущих бойцов, их шинелей, вещмешков и винтовок, сухих, скованных холодом и тревогой лиц. Пряжево падающего снега как бы уменьшало Мавзолей с видным по грудь человеком в серой шинели и военной фуражке, к которому жадно, с надеждой тянулись взгляды всех, кто шел по обледенелому булыжнику площади. Это воспоминание навалилось на Говорова тем давним холодом, бесприютом, смятением, он нашел плечико Манечки, инстинктивно прижал ее к себе, словно защищая от того грозного времени и находя в ней защиту себе самому.
Каракули ее, с великим, видно, напряжением, так и сяк выстроенные всего в два слова, были обнаружены на даче в письменном столе Говорова. Не исключено, что напряжение это, угадываемое по жирным вибрирующим прорезам бумаги «шариком», не было простым физическим действием, соединением с трудом припоминаемых букв, — вероятно, рукой Манечки водил аффект нередко находившего на нее умиления, в данном случае, впрочем, хватившего лишь на эти два слова, на это начало письма, которое она решила оставить перед своим исчезновением.
Читать дальше
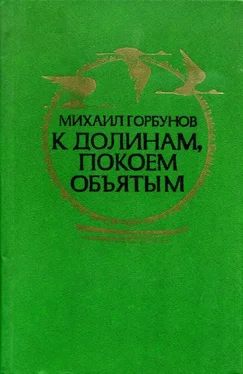


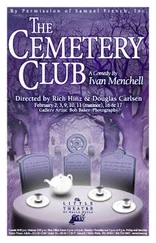
![Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]](/books/202576/mihail-gorbunov-belye-pticy-vdali-roman-rasskazy-thumb.webp)





