Все произошло так дерзко и быстро, что подбежавшая к Говоровым смотрительница в строгом темно-синем костюме, ошеломленно пунцовея лицом, лишь раскрывала рот, не находя слов, Ирина Михайловна, мучительно ломая пальцы, извинялась перед ней. Но это был еще не тот конфликт.
Тот, второй конфликт произошел уже при выходе из Кремля.
По плану Ирины Михайловны, составленному с нарастанием значимости подлежащих осмотру мест, оставались Вечный огонь в Александровском саду и Мавзолей. Но когда вышли из ворот Кутафьей башни, Манечка почему-то вспомнила, что там, где было много народу («У ГУМа», — догадался Говоров), тетенька-лоточница продавала пирожки. Говоров поразился Манечкиной наблюдательности: действительно, напротив выхода из ГУМа толстушка в засаленном халате заливалась соловьем: «Го-о-орячие пирожки с мясом! С мясом, с мясом! Горячие!» Так вот теперь надо было плестись к ГУМу за несчастными пирожками, которые Манечка поставила условием продолжения экскурсии. Ирина Михайловна, сбитая с толку Манечкиным упрямством, поскучнела. Говоров, уже чувствовавший достаточную тяжесть в ногах от немалой ходьбы, тоже не испытывал особого энтузиазма. Назревала ситуация, сходная с той, что была когда-то в магазине.
И тут, глядя на обиженное, неказисто посеревшее на холоде личико Манечки, готовой снова заплакать, Говоров с упавшим сердцем вспомнил, что она ведь сегодня уезжает… Манечка «тянет время», ей нужно до конца использовать свое право на все, что было для нее за семью печатями: на Василия Блаженного, на царь-пушку, царь-колокол, и тут были оправданы возмутившие Ирину Михайловну пирожки. Он взял Манечку за плечи, за ее жалкие косточки, и подумал о том, как много они уже выдержали и как много предстоит им нести, расплачиваться за чужие грехи…
От узорчатой Кутафьей башни повернули направо, медленно передвигаясь вдоль чугунной решетки Александровского сада. Из его глубины вырастала невообразимо высокая, темная зубчатая стена, а под ней, на ровной, плоской гранитной площадке, виднелся рядок ребятишек в непривычно для холодного дня белых рубашонках и красных галстуках… Они стояли лицом к Вечному огню, загораживая его, как бы греясь возле него. Говоров представил себе их лица, простые девчонки и хлопчики, издалека приехавшие с учительницей, принесшие с собой несколько необычные в огромном городе восторг и чистоту удивления. Говоров тронул Ирину Михайловну за руку, успокаивая ее.
— Давайте решим так: ты посиди в саду, а мы пойдем за пирожками.
Она взглянула на него растерянно, будто Говоров бросал ее одну на произвол судьбы. Но до ГУМа оставалось не так уж далеко.
— Ты не беспокойся, мы мигом. Да, Манечка?
— Да, — квакнула Манечка.
— Ну, как знаете, — сказала Ирина Михайловна, доверяясь Говорову.
Манечка взяла его за руку и бодро зашагала с ним к ГУМу. Но чем дальше они удалялись от Ирины Михайловны, шаги ее замедлялись. Шмыгая носом, она стала оглядываться назад. Ирина Михайловна никуда не уходила, стояла у решетки, обтекаемая прохожими, помахивала им рукой. Дошли до узорчатых кирпичных стен Исторического музея, осталось немного подняться и там будет ГУМ, в общем уличном шуме уже был различим заливистый голос лоточницы, рекламировавшей пирожки с мясом, и этот голос словно напугал Манечку. Она остановилась, подняла к Говорову глаза, в которых было замешательство.
— Знаешь что, дедушка… — она впервые назвала его так, и это благодарно поразило его. — Я расхотела пирожков.
— Да?
— Да. Давай вернемся и пойдем смотреть Вечный огонь.
— Давай вернемся.
Ирина Михайловна по-прежнему стояла там, где они ее оставили, будто знала, что Манечка расхочет пирожков, и Говоров стал подавать ей знаки, чтоб шла к высоким чугунным воротам Александровского сада.
В саду было пустынно, печально и светло. Справа от аллеи ровно подстриженные газоны подернулись еле заметной буроватой рябью, вызывающе ярко, как бывает перед увяданием, алели цветы на клумбах, и в прохладном воздухе меж огромных лип с пробившейся в кронах желтизной неуловимо веяло запахом осенней земли. Все, что было справа, и дальше, за высокой решеткой, — движение людских толп, шум автомобилей, — пестро стояло в глазах одним общим раздробленным планом.
Вся тишина, вся печаль, все, что веками росло в глубинах неухищренной народной совести, олицетворялось в гигантской, кирпичик к кирпичику, зубчатой стене с крохотными глазками бойниц, навевающей почтительное изумление перед древними творцами и ратоборцами, которые будто сошли вместе со своими потомками в сырую землю у подножия стены, многократно усилив слова «Могила Неизвестного солдата». Одна даль, в которой тонули удары кремлевских звонниц, высверки княжьих мечей, смутно проступила и ясно высветила другую, которая неотступно жила в Говорове видением и запахами ночных пыльных дорог, рвущегося тола, сочащихся влагой траншей, — эта даль пришла сюда, на низкие гранитные плиты, где трепещет и тихо хлопает, так хлопают на ветру флаги, пламя, вырывающееся из середины чугунной плиты. Сейчас Говоров чувствовал неловкость, стеснение, оттого что он непозволительно редко приходит сюда, будто забыл об оставшихся в своих и чужих землях друзьях, увязнув в затягивающих, как трясина, заботах в ущерб тому сущему, что и есть в человеке его животворящая ветвь. И вот теперь неразумный ребенок Манечка преподает ему нравственный урок, в сущности, она привела его сюда. Сейчас он начал что-то понимать, будто различал в тумане давние знакомые контуры: да, да, дети, третье, пятое колена восстановят истину, больше некому…
Читать дальше
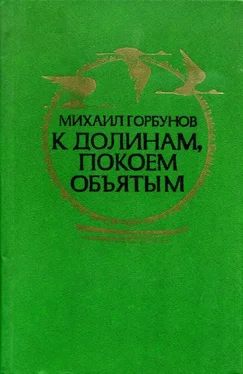


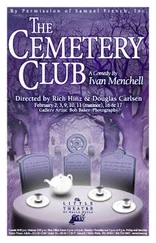
![Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]](/books/202576/mihail-gorbunov-belye-pticy-vdali-roman-rasskazy-thumb.webp)





