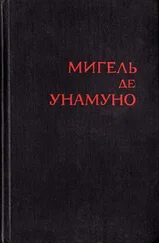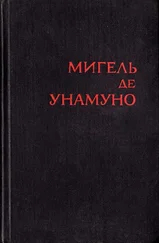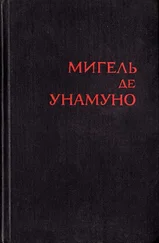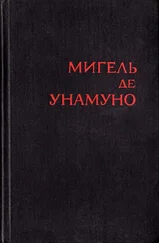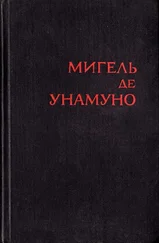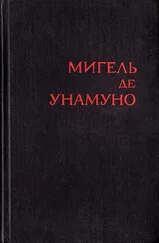— Но если в нашем возрасте не говорить о прошлом — о чем же тогда говорить? Ведь у нас с тобой, кроме прошлого, ничего не осталось!
— Ты не прав! — почти выкрикнул Хоакин.
— Нет, теперь мы можем жить только воспоминаниями!
— Замолчи, Авель, замолчи!
— А если правду тебе сказать, уж лучше жить воспоминаниями, чем надеждами. То, что было, — то было, а что должно быть, еще сбудется ли?
— Нет, нет, никаких воспоминаний!
— В таком случае, поговорим о наших детях; в них вся наша надежда.
— Вот о них — с радостью!
— Он получит в тебе разом отца и учителя…
— Да, я думаю передать ему свою клиентуру, по крайней мере, ту ее часть, которая пожелает у него лечиться и которую я уже подготовил к этому. В самых тяжелых случаях я буду ему помогать.
— Спасибо, Хоакин, спасибо.
— В сущности, это и есть приданое, которое я могу дать за своей дочерью. Но жить они будут со мной.
— Сын уже сказал мне об этом. И тем не менее я думаю, что они должны обзавестись своим домом; знаешь поговорку: женился — отделился.
— Нет, с дочерью я не могу расстаться.
— Но ведь и нам не хотелось бы расставаться с сыном, как ты думаешь?
— Однако вы же так редко с ним виделись… Сам знаешь, мужчина не очень-то сидит дома, а женщина почти всегда. Дочь мне необходима.
— Пусть будет по-твоему. Видишь, я человек покладистый.
— Нечего и говорить, дом этот, конечно, будет и твоим домом… твоим и Елены…
— Спасибо, Хоакин. Иного я и не ожидал.
После длительных переговоров, в ходе которых было обговорено все, что касалось будущего устройства детей, уже расставаясь, Авель посмотрел на Хоакина открытым, искренним взглядом, протянул ему руку и задушевным голосом, звучащим как эхо их далеких детских лет, прошептал: «Хоакин!» Хоакин пожал протянутую руку, и на глаза его навернулись слезы неподдельного волнения.
— Я знаю тебя с колыбели и еще ни разу не видел, чтобы ты плакал.
— Больше мы уже не будем детьми, Авель.
— Да, и это самое грустное.
На этом они расстались.
Казалось, что с замужеством дочери когда-то такой пронзительно холодный домашний очаг Хоакина начало согревать запоздалое осеннее солнце, и Хоакин зажил настоящей жизнью. Он передал врачебную практику зятю, приходя в особо тяжелых случаях на помощь ему в качестве консультанта. Впрочем, он охотно давал понять, что зять работает под его руководством.
Авелин, пользуясь записями тестя, которого он уже величал отцом и называл на «ты», а также некоторыми устными его разъяснениями и указаниями, работал над книгой, обобщающей медицинскую практику доктора Хоакина Монегро. В свою книгу Авелин вносил оттенок восторженного преклонения перед учителем, чего, разумеется, не было бы в ней, если бы книгу написал сам Хоакин. «Быть может, оно и лучше, — размышлял иногда Хоакин, — гораздо лучше, что книгу пишет другой. Ведь в конце концов именно Платону, а не самому Сократу удалось так исчерпывающе убедительно изложить сократовское учение {92} ». И в самом деле, не ему же со всей надлежащей свободой — тут всегда есть риск оказаться претенциозным и нескромным — браться за такой труд; ведь не мог же он сам восхвалять собственный опыт и знания. Свой писательский дар он берег для иного труда.
Именно в ту пору он и засел за написание своей «Исповеди», как он ее называл, обращенной к дочери. Дочь должна была вскрыть рукопись только после его смерти. Эта «Исповедь» должна была стать повестью о том непрерывном борении со страстью, которым была вся его жизнь, борении с тем демоном, с которым он сражался почти с малолетства и вплоть до момента, когда приступил к работе над «Исповедью». Хоакин писал «Исповедь» для своей дочери, но он был глубоко проникнут сознанием высокого трагического смысла собственной жизни, прожитой им под знаком одной страсти, страсти, ставшей единственным содержанием его жизни, и это сознание заставляло его лелеять надежду, что однажды дочь или внуки предадут «Исповедь» печатному станку, дабы читатель преисполнился восхищения и ужаса перед ее многострадальным героем, этим мрачным страстотерпцем, который не был достаточно распознан своими современниками. Хоакин полагал себя личностью исключительной, а потому и более подверженной мукам и страданиям, душой, от рождения отмеченной божественной печатью высокого предопределения.
«Вся моя жизнь, — писал он в «Исповеди», обращаясь к дочери, — была одним непрестанно сжигавшим меня огнем, но я не променял бы ее ни на чью другую. Я ненавидел, как никто другой не сумел бы ненавидеть, и это потому только, что я, как никто другой, чувствовал высшую несправедливость мирской славы и милостей, раздаваемых судьбой. Нет, нет, то, что причинили мне родители твоего супруга, не было ни гуманно, ни благородно, это было подло; но еще сто крат хуже было то, что причиняли мне другие, с чем я столкнулся уже в детстве, когда, будучи доверчивым ребенком, я искал поддержки и любви у своих сверстников. Почему они отворачивались от меня, избегали, гнали меня? Почему они так холодно меня встречали, будто кто-то их к тому принуждал? Почему они предпочитали мне мальчишку легковесного, непостоянного, эгоистичного? Все, все они отравляли мне жизнь. И тогда я понял, что мир несправедлив по изначальной своей природе и что родился я среди людей мне чуждых. В этом — в невозможности родиться среди своих — и заключалось мое несчастье. Пресмыкательство, неприкрытая грубость окружающих сгубили меня».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу