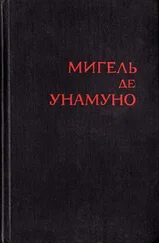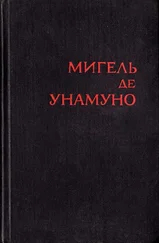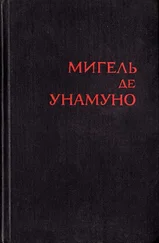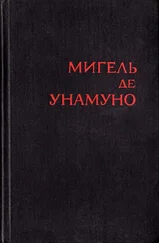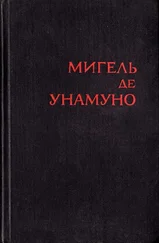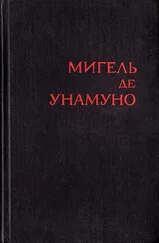— Конечно.
— А это значит — перестать существовать.
— Бесспорно.
— Но не для того, чтобы стать другим…
— Правильно. Я хочу сказать, дон Хоакин, что я охотно перестал бы существовать или, скажу яснее, всадил бы себе пулю в лоб либо утопился в реке, если б точно знал, что дети мои, которые одни только и привязывают меня к этой собачьей жизни, одни только и удерживают меня от самоубийства, найдут в вас второго отца. Теперь понятно?
— Понятно. Так, значит…
— Значит, мне осточертела эта жизнь, и я с радостью бы с ней расчелся и навсегда избавился от тяжких своих воспоминаний, когда б не мои близкие. Да, пожалуй, удерживает меня и еще одна вещь…
— Какая?
— Боязнь того, что воспоминания о пережитом будут проследовать меня и после смерти. Эх, если бы я мог стать вами, дон Хоакин!
— А что, друг мой, если меня привязывают к жизни причины того же сорта, что и вас?
— Не может этого быть! Вы же человек богатый.
— Богатый… богатый…
— А человек богатый никогда не имеет причин жаловаться. Ваша жизнь — полная чаша. У вас есть все: жена, дочь, хорошая клиентура, громкое имя… Чего еще желать? Отец не лишал вас наследства, родной брат не вышвыривал вас из отчего дома и не вынуждал просить милостыню… Никто не доводил вас до необходимости протягивать руку за подаянием. Да, если бы я мог стать вами, дон Хоакин!
Оставшись один, Хоакин подумал: «Если бы он мог стать мною! Этот человек завидует мне, завидует! А я, кем бы я хотел стать?»
Вскоре состоялась помолвка Авелина и Хоакины. В «Исповеди», обращенной к дочери, имеется по этому случаю такая запись:
«Теперь мне боязно объяснить, каким образом удалось мне склонить Авеля, ставшего ныне твоим супругом, на то, чтобы он попросил твоей руки. Пришлось дать ему понять, что ты влюблена в него или по меньшей мере что тебе было бы приятно видеть его у своих ног; при этом я ни словом не выдал нашего с тобой разговора с глазу на глаз, который произошел у нас после того, как Антония открыла, что из-за меня ты собираешься уйти в монастырь. В этом ты видела мое спасение. Я же надеялся обрести спасение, только соединив твою судьбу с судьбой единственного отпрыска того, кто отравил мне самый источник жизни, только породнившись и смешав нашу кровь с их кровью. Я думал, что, быть может, однажды твои дети, мои внуки, дети его сына, тем самым и его внуки, унаследовав мою и его кровь, окажутся в борении с самими собой, столкнутся с ненавистью к самим себе. Разве ненависть к себе, к собственной своей крови не есть единственное средство против ненависти к другим? В Писании сказано, что Исав начал свою распрю с Иаковом еще во чреве Ревекки. Кто знает, не зачнешь ли ты однажды близнецов, в жилах одного из которых будет течь моя кровь, а в жилах другого — его кровь, и вот эти близнецы станут драться и ненавидеть друг друга еще в твоем чреве, еще до того, как родятся на свет и обретут сознание? Ибо это и есть человеческая трагедия, и всякий человек, подобно Иову, всего лишь порождение противоречия {91} .
Я содрогался при мысли, что вдруг я соединил вас вовсе не для того, чтобы слить враждующую кровь воедино, но, напротив, еще больше разделить ее, увековечить ненависть. Прости меня! Я брежу.
Нет, не только нашу кровь, его и мою, — еще и ее кровь, кровь Елены. Кровь Елены! Вот что более всего смущает меня; кровь, которая окрашивает ее щеки, лоб, губы, кровь, сияние которой ослепило меня.
И еще кровь Антонии — многострадальной Антонии, твоей святой матери. Ее кровь — как вода для крещения, кровь искупительная. Лишь кровь твоей матери, Хоакина, может спасти твоих детей, наших внуков. Только эта незапятнанная кровь и может принести искупление.
И пусть Антония никогда не увидит этой «Исповеди» — никогда! И если ей суждено пережить меня, пусть покинет этот мир, так и не узнав всей правды о нашей постыдной тайне…»
Молодые люди быстро поняли друг друга и прониклись взаимной симпатией. В задушевных беседах выяснили они, что оба стали жертвами домашнего своего воспитания: он — легкомысленного бесстрастия, она — глубоко упрятанной, леденящей душу страсти. У Антонии молодые нашли полную поддержку. Они призваны были возжечь настоящий домашний очаг, свить гнездо безмятежной, чистой любви, живущей в себе самой, никому не завидующей и никому не мешающей, построить замок любовного уединения, в котором бы нашли приют и покой два несчастливых дотоле семейства.
Авелю должны они были доказать, что интимная домашняя жизнь всегда будет ценностью непреходящей, а искусство — всего лишь тусклым ее отблеском, если не тенью. Елене — что вечная молодость заключена в душе, умеющей самозабвенно отдаваться семье, погружаться в ее радости и заботы. Хоакину — что имя наше исчезает со смертью, для того, однако, чтобы возродиться в именах и жизнях наших потомков. Антонии же ничего не нужно было доказывать, ибо она сама словно родилась для сладостной семейной жизни, уюта и домашнего тепла.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу