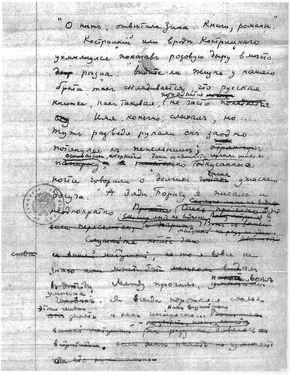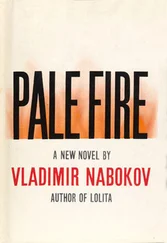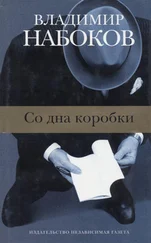Было: «я еврейка».
Было: «масонские».
Вычеркнуто каламбурно-фамильярное: «кузиночка».
Ошибка Кострицкого: имя ее отца, как известно из третьей главы «Дара», Оскар Григорьевич Мерц (умер в Берлине от грудной жабы, когда Зине было пятнадцать лет, за четыре года до ее знакомства с Федором Годуновым-Чердынцевым). Это отчество в романе носит другой персонаж, Любовь Марковна, одинокая пожилая дама в пенсне, частая посетительница литературных салонов.
Вычеркнуто: «А когда так мутит, это значит рак? Уже два раза меня резали».
Было: «эти две комнаты».
Зачеркнуто: «Годунов-Чер<���дынцев>» и «муж», над которым написано «князь». Грейсон полагает, что слово «князь» вычеркнуто, однако так может показаться оттого, что оно написано поверх другого слова («ответил»?).
Было: «довольно долго».
Вычеркнуто: «Годунов-Чердынцев», «Князь».
Долинин выбрал предыдущий, исправленный Набоковым вариант: «в молодости» (Александр Долинин. Истинная жизнь писателя Сирина. СПб., 2004. С. 282).
Было: «демонского дара».
В. В. Виноградов отмечает, что уже «в 30-е годы XIX в. слово крамола воспринимается как архаизм. Но в начале XIX в. крамола , крамольный , крамольник еще довольно широко употреблялись в стилях стихотворного языка и в исторической беллетристике» (История слов. М., 1999. С. 253). Говоря о «крамольно-боярском» облике Федора (уже названного князем), Набоков, конечно, подразумевает историко-литературные коннотации его фамилии и проводит линию от своего героя к Пушкину, вложившему в уста Царя в «Борисе Годунове» (сын Годунова — царевич Феодор ) такие слова: «Противен мне род Пушкиных мятежный...» Грубый забытый смысл определения раскрывается в пушкинских выражениях «упрямства дух» и «крови спесь» («Моя родословная»), сказанных им в адрес предков, которым пришлось «смирить крамолу и коварство». Далее, в сценах с Ивонн, это определение Федора получает развитие и отчасти объяснение в его самохарактеристике как «изгнанника и заговорщика» в «популярной» или «вторичной» реальности.
Зачеркнуто: «август<���овский>», «сентябрьский».
Возможно, параллель к концовке «Дара»: «завтрашние облака».
Вероятно, имеется в виду основанная А. Н. Барановым «Свободная трибуна в эмиграции» — популярные в Париже в 1935—1939 годах собрания под лозунгом «за веру, царя и отечество», на которых обсуждались политические и общественные темы (например: «Еврейский вопрос (Евреи в дореволюционной России; в период революции; в СССР и в эмиграции)», 13 февраля 1938 года; «Беженские вожди», 3 марта 1939 года и т. п.). Газета «Возрождение» печатала анонсы и отчеты этих собраний.
Нельзя сказать с уверенностью, что следующая после слова «Независимых» реплика не вычеркнута. Далее вычеркнуто продолжение: «Мысли у него тоже довольно громкие, — просто сердито [sic!] сказала Зина. — По крайней мере, для моего слу<���ха>. Сейчас он нес страшную дичь. Михал Михалыч считает, сказала Зина, что в Германии [...]. О том, что у Гитлера рай, идеальный режим».
Было: «фашизме».
Было: «простокваша».
Было: «Я принесу. Может быть, и вы [...]».
Отсылка к третьей главе «Дара»: «Ее бледные волосы, светло и незаметно переходившие в солнечный воздух вокруг головы, голубая жилка на виске, другая, — на длинной и нежной шее, тонкая кисть, острый локоть, узость боков, слабость плеч и своеобразный наклон стройного стана...» (Владимир Набоков. Дар. Анн Арбор, 1975. С. 200. Далее цитаты из романа приводятся по этому изданию).
Вычеркнуты варианты продолжения: «и лицо его выражало мальчишеская [sic] было ужасно» (вероятно, изначально было: «его мальчишеское лицо выражало», затем: «его лицо было ужасно»).
Написано над невычеркнутым словом «кинематографистов». В письме к жене из Парижа (почтовый штамп 13 февраля 1936 года) Набоков сообщал: «Пишу четыре , нет, даже пять сценариев для Шифр.<���ина> — причем мы с Дастакианом на днях пойдем регистрировать их — против кражи» (цит. по: А. Бабиков. Примечания // Владимир Набоков. Трагедия господина Морна. Пьесы. Лекции о драме. СПб., 2008. С. 547). В 1936—1937 годах Набоков написал в Париже несколько сценариев для кино (упомянутый в письме Семен Шифрин был известным кинопродюсером Парижа), ни один из которых не был воплощен, и встречался в Лондоне с актером и режиссером Фрицем Кортнером, намеревавшимся экранизировать «Камеру обскуру».
Читать дальше