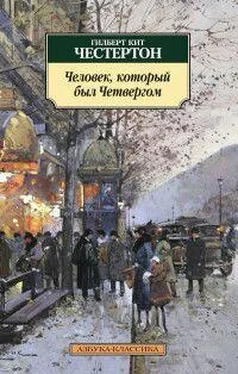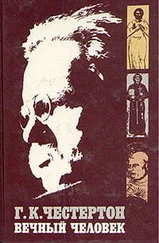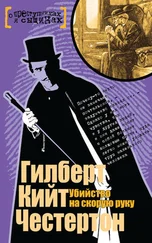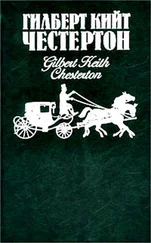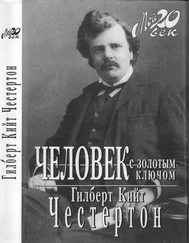Тут мы уже подходим вплотную к самому главному в «Четверге» — нравственному его смыслу. Причудливому, уютному, беззащитному и драгоценному миру непрестанно грозит адское зло небытия. Бо́льшая часть живущих в мире людей — просто люди, и они хороши. Честертон последовательно и твердо считал поистине дурными только «умников», что довольно странно для нашего века, когда много и справедливо говорят о страшных свойствах человека толпы. Но у него и на это был ответ: «Чернь — народ без демократии». Живут люди, любят детей, любят дом — одну из высочайших ценностей для Честертона — и героически, против всех оснований, ценят жизнь. «Шарманочный люд» мужествен и трогателен; в книге о Диккенсе Честертон воспевает «трогательные радости бедных». Мне кажется, то место книги, где Сайм ощутил себя их защитником, нельзя читать спокойно. Пока Дни Недели — в Англии, представитель «людей» — только один, доктор Булль; однако он стоит сотни. Доброта Субботы, его надежда, его стойкость таковы, что он по праву воплощает день, когда был создан человек. Но вот мы попадаем во Францию, и все немного меняется. Честертон считал, что французы — ничуть не легкомысленный, а рациональный, даже своекорыстный народ, и это ему нравилось. Каждому свое: англичане — нелепы и бескорыстны, французы — вот такие. Крестьянская расчетливость дровосека, сабля трактирщика, чинность доброго старого вояки наводят на мысль уже не о демократизме, которым так славен Честертон, а о консерватизме в духе Деруледа: добропорядочный, кряжистый народ — и вредоносные интеллектуалы.
Но среди честертоновских интеллектуалов есть не только умники, есть и поэты. В романе это прежде всего Четверг, Гэбриел Сайм. Грегори, конечно, не «поэт», а «умник».
Обоснованно ли, необоснованно, но Сайм считает, что миру грозит страшное зло. Это и жестокость, и гордыня, и уныние, но ведь еще и хаос. Не случайно четвертый день творения связан со «стройным чином мироздания» (сказал это В. Соловьев, который Честертона, естественно, знать не мог, но и крайне мало вероятно, чтобы Честертон даже слышал о нем). Философ–полисмен предлагает Сайму примкнуть к тайным стражам порядка. Человек в темной комнате называет это мученичеством. Казалось бы, почему? Потому, что это опасно?
Дальше следуют несообразности, описанные выше. Никто ни с кем толком не борется, а единственная реальная борьба — поединок — оказывается недоразумением, близким к фарсу. И можно было бы, отвлекшись смешными сценами, красотой описаний, дивными записками Председателя, нравственного смысла не искать. К счастью, смысл этот просто и точно выразил сам Честертон — перед концом романа Сайм отвечает анархисту Грегори. Правда, закон «не видят, потому что не ждут» действует и здесь. Только что, уже кончая послесловие, я преждевременно обрадовалась, что помогу уничтожить это слепое пятно, и для начала припомнила реплику Сайма о том, что пора бы отменить правых и левых, очень уж надоели. Собеседник мой, человек очень умный, живо откликнулся: да, роман ведь о том, что правые и левые — все едино. В определенном смысле это верно, особенно в той сфере, которой как бы посвящен «Четверг», — левые террористы и террористы правые одинаково ужасны. Однако Честертон написал не о том, как плохи и поборники гибельного порядка, и поборники гибельной свободы. Конечно, он знал, что «у дьявола две руки». Но знал он и другое — две руки у Бога, а если такие высказывания нам неприятны, можно сказать: две руки, правая и левая, у человека.
Теперь, когда так настойчиво ведут бесплодный спор между насильственным порядком и беззаконной свободой, прозрение Сайма необычайно ценно. Мы говорили о том, что поведение Дней Недели противоречит логике. Но это неважно — в притче о Четверге оно сообразно нравственности. Да, учит нас Честертон, добрый лад защищать надо, но никогда, ни в коем случае не «сверху». Почти никто не умел так, как он, не просто сочетать, а справить воедино все то, что прекрасно в порядке, и все то, что прекрасно в свободе. Его можно было бы счесть каким–то «правым ретроградом» — но готов ли кто–нибудь из них к беззащитности изгоя, готов ли бороться в одиночку и только с тем, кто сильнее («Бей кверху»)? Можно счесть его, как искренне считали в 20-х годах, «ужасно современным левым» — для этого достанет и озорства, и легкости, и лихости; но готов ли «левый» — новый ли, старый ли — всем сердцем ненавидеть хаос, почитать долг и добродетель, а главное — помнить, что и свобода бывает гибельной?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу