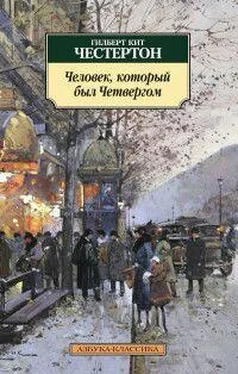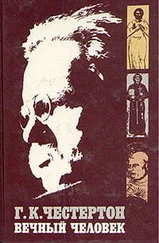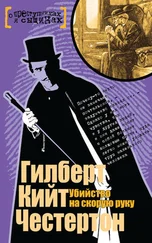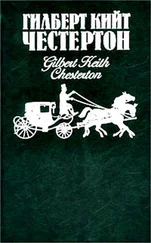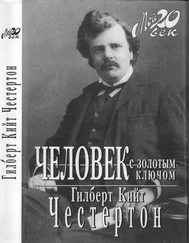Когда переводишь эту книгу, часто хочется вставить «по–видимому», «должно быть» и тому подобное (например, про Секретаря — «Вероятно, он был из тех, кто щепетилен и совестлив даже в преступлении»). Остается предположить, что так видит Сайм; принять, что логики и психологической достоверности здесь не больше, чем во сне.
Есть и совсем странные вещи. Честертон долго описывает, как боялся Сайм Председателя, когда впервые его увидел. Именно в этом месте мы читаем прекрасные слова о том, что он был достаточно слаб, чтобы бояться силы, но не настолько слаб, чтобы ею восхищаться. Но вот, незадолго до конца книги, Сайм открывает соратникам, что сзади Воскресенье показался ему гнусным и страшным, спереди — прекрасным. И это место очень важно для Честертона, именно здесь подходит он к одному из главных своих убеждений: сущность мира, самая его глубина несомненно и безусловно хороши, хотя «сзади» он далеко не без оснований может показаться и бессмысленным и непереносимо страшным. Собственно, именно так выглядит «пресловутый оптимизм Честертона» (сам он называет «пресловутым» оптимизм Диккенса). С обычной точки зрения это и не оптимизм; но сейчас мы до поры до времени говорим о другом: Честертон снова открывает нам одну из важнейших для себя истин — а внимательному читателю приходится что–то выбирать, не из истин, конечно, а из обстоятельств. Боялся Сайм Председателя, когда увидел его лицо, или восхищался им? Роман на это ответа не даст; принять же и то, и другое можно только в том случае, если мы вообще перестанем ждать от книги логической и психологической сообразности.
Но все это, повторю, незаметно при быстром, бездумном чтении. Зато очень заметна атмосфера сна. Ощутима, конечно, и атмосфера буффонады, но до погони за Председателем буффонада проста и поверхностна, как в кукольном театре, — снимают бороды, снимают носы, бегают друг за другом; слово «сон» и здесь точнее.
Однако для Честертона сон этот еще и «страшный». И во многих эссе, и в «Автобиографии», и в этой книге Честертон пытался поведать о совершенно конкретных, измучивших его страхах. Чего же он так боялся?
Когда читаешь книгу о Четверге, нередко кажется, что речь идет не о прошлом «конце века», а о нашем, нынешнем. Конечно, молодой честный и чувствительный человек почти всегда остро ощущает зло мира. И все–таки Честертона мучили не просто злоба и ложь, мучающие юных, а особые свойства людей и лет, тесно связанные и с тем, и с нашим концом века, — безразличие, а то и ненависть к человеческой жизни. Когда читаешь книгу, думаешь, что тогдашние террористы — и настоящие, и выдуманные — просто ангелы перед нынешними. Но так это или не так, нравственную суть Честертон видит верно — разрушение ради разрушения и полный, последний пессимизм; не печаль, не скорбь, не горе, а гордое гнушение радостью. Все это было тогда, наверное, не так сильно, а главное — не так «массово», как теперь. И все же Честертон страдал не меньше, чем можно страдать в наше время. При этом мучился он вдвойне: и от зла вокруг, и от зла в себе самом.
Кончив в начале 90-х годов одну из лучших и самых старых английских школ, он не поступил ни в Оксфорд, ни в Кембридж, как полагалось воспитаннику этой школы и молодому человеку его круга, и стал посещать нечто вроде «художественного института», так называемую Слейд–скул. В одном эссе он писал, что в таких местах или трудятся непрестанно, или не делают ничего. Сам он не делал ничего (хотя был очень способным рисовальщиком и живописцем) и в отчаянье мыкался по Лондону. Бывало он в модных гостиных, где, как писал гораздо позже, много умников, немного поэтов, а людей вообще нет; попал однажды на спиритический сеанс, а больше всего бродил в одиночестве, как Сайм. В наши дни, наверное, его лечили бы от юношеской депрессии, тогда как он просто не мог жить, ни во что не веря. Как Сайм, подходящий к отелю на Лейстер–сквер, он видел мир сзади и был на грани безумия, а грань отчаяния давно перешел. Намного позже, в рассказах о тезке Сайма, Гэбриеле Гэйле, Честертон писал: «В молодости нормально побыть ненормальным». Не знаю, как по науке, а по закону нравственному даже и дурно быть бездумно бодрым среди мирского зла. Позже, когда человек укрепится духом, со страданием может слиться высокая радость, которая, как и страдание, противостоит и бодрому равнодушию, и равнодушию унылому. Случилось это и с Честертоном, но прежде, все 90‑е годы, он видел только зло, и особенно мучил его тот самый сплав гордыни и всеотрицания, который описывает философ–полисмен, повествуя о «внутреннем круге». Все прочие виды зла он, собственно, и не осуждал. Он страдал от них, но никогда не судил того, что вызвано «простительной слабостью человеческой воли». Опять же много позже, в эссе «Если бы мне дали прочитать одну–единственную проповедь», он рассказал и показал, как чудовищно меняется любой грех, перемножаясь на гордыню. Собственный его главный грех этих лет — уныние — на гордыню не перемножался. Но радости молодой Честертон не ощущал, мир был ужасен и, что еще больше его пугало, вообще исчезал, растворяясь в последнем сомнении.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу