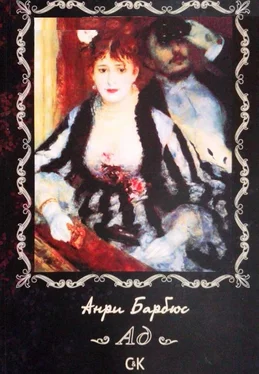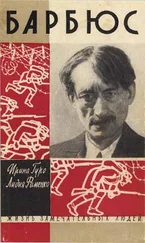«Просто произносите со мной: «Отче наш, иже еси на небеси.» Я не буду требовать от вас чего-то другого.»
Лицо больного, судорожно сведённое отказом, проявляло жест отрицания: Нет… Нет…
Вдруг священник встал с торжествующим видом:
«Наконец! вы это сказали.
— Нет.
— А!» — проворчал священник сквозь зубы.
Он сжимал ему руки, казалось, будто он обхватывал его руками, чтобы обнять, чтобы задушить его, что он бы убил его, если бы его хрипение должно было стать признанием — настолько он был переполнен желанием убедить его, вырвать у него слово, которого он пришёл добиться от его уст.
Он выпустил иссушенные руки умирающего, зашагал взад и вперёд по комнате, как хищный зверь, вернулся, чтобы стоять перед кроватью.
«Подумай, что ты скоро умрёшь, сгниёшь, — пробормотал он умирающему… Ты скоро будешь в земле. Скажи: «Отче наш», только эти два слова, ничего больше.»
Он стоял над ним, зорко следя за его ртом, скрючившийся и мрачный, как демон, подстерегающий душу, как вся Церковь над всем умирающим человечеством.
«Скажи это… Скажи это… Скажи это…»
Его собеседник попытался освободиться, и яростно прохрипел, совсем тихо, во всю оставшуюся силу своего голоса: «Нет.
— Сволочь!» — крикнул ему священник.
*
«Ты умрёшь по крайней мере с распятием в когтях.»
Он вытащил из кармана распятие и тяжело положил его ему на грудь.
Умирающий зашевелился в смутном ужасе, как если бы религия была заразной, и сбросил этот предмет на пол.
Священник наклонился и пробормотал оскорбления: «Гниль, ты хочешь околеть как собака, но я нахожусь здесь!» Он поднял крест, оставил его в руке и, со сверкающими глазами, уверенный, что переживёт другого и подавит его, в последний раз подождал.
Умирающий задыхался, полностью теряя силы, измученный. Священник, видя, что тот в его власти, снова положил распятие ему на грудь. На этот раз умирающий его сохранил, будучи в состоянии лишь смотреть на него ненавистными и полными погибели глазами; и его взгляды не дали ему пасть в бою.
Когда чёрный человек отбыл во мраке, и когда его собеседник постепенно пришёл в чувство после него, освободился от него, я подумал, что этот священник, со всей своей жестокостью и грубостью, был страшно прав. Плохой священник? Нет, хороший священник, который не перестал разговаривать сообразно своей совести и своей вере, и который старался просто применить свою религию, такую, какая она есть, без лицемерных уступок. Невежественный, неловкий, неотёсанный — да, но честный и даже логичный в своём отвратительном посягательстве. В течение получаса, когда я его слышал, он старался, всеми средствами, используемыми и рекомендуемыми религией, применить на практике свою специальность по вербовке верующих и по отпущению грехов; он сказал всё, что священник не может не сказать. Весь догмат проявился, в чистом виде и определённо выраженный, через грубую вульгарность служителя, раба. В какой-то момент, растерявшийся, он простонал с истинным страданием: «Так чего же вы ещё хотите, чтобы я сделал!» Если мужчина был прав, то и священник был прав. Ведь это священник, безропотный скот религии.
*
…Ах! это нечто, которое не шевелилось, прямое, около кровати… Это большое высокое нечто, которого только что здесь не было — преграждающее скачущее пламя свечи, поставленной около больного…
Я нечаянно издал шум, опираясь на стену, и, очень медленно, это нечто повернуло ко мне лицо со страхом, который меня испугал.
Я знал это смутно видимое лицо… Ведь это был не кто иной, как хозяин гостиницы, человек со странными манерами, которого мало видели…
Он слонялся в коридоре, ожидая момента, когда больной, в суматохе этого заведения, останется один. И он стоял около заснувшего или объятого слабостью мужчины.
Он протянул руку к дорожной сумке, стоящей около кровати. Делая это движение, он смотрел на умирающего и расположился таким образом, чтобы его рука в два приёма достала бы до этого предмета.
Раздался какой-то треск с верхнего этажа, и мы вздрогнули. Стукнула дверь; он поднялся, словно стараясь остановить вскрик.
…Он медленно открыл дорожную сумку. А я, я, больше не узнавал себя, я боялся, что у него не хватит на это времени…
Он вытащил из неё пакет, который тихо прошуршал. И, когда он внимательно рассматривал в своей собственной руке пачку банкнот, я увидел необычайное озарение, излучаемое его лицом. Все любовные чувства были в нём смешаны: обожание, мистицизм, а также зверская любовь… — своего рода сверхъестественный экстаз, а также грубое удовлетворение, уже заключавшее в себе непосредственные радости… Да, все виды любви мгновенно отпечатались в глубине человеческой природы этого образа вора.
Читать дальше