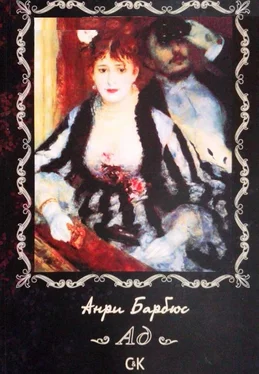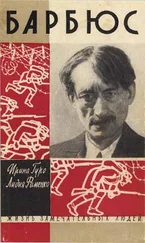«Я был тогда молодым, сильным, полным надежд и начинаний. Я считал, что смогу завоевать мир и даже что у меня имелся выбор возможностей… Увы, я лишь быстро появился на его внешней стороне! Она была ещё моложе меня: столь недавно расцветшая, что однажды — я вспоминаю, на скамейке в парке, где мы сидели, и не очень далеко от нас, находилась её кукла. Мы говорили друг другу: «Ведь мы вернёмся оба в этот парк, когда станем старыми?» Мы любили друг друга… Вы понимаете… У меня нет времени вам сказать, но вы понимаете, Анна, что эти несколько дорогих мне фрагментов воспоминания, которые я вам предоставляю наудачу, прекрасны, более прекрасны, чем думается!
«Она умирает как раз той же осенью, в момент — я сохранил эту подробность — когда, после официального назначения даты нашего бракосочетания, мы решили уже называть друг друга на «ты». Эпидемия, причинившая горе нашей стране, сделала из нас две жертвы. Я выздоравливал один. У неё не было сил избавиться от изверга. Прошло двадцать пять лет. Двадцать пять лет, Анна, между её смертью и моей.
«И вот самый драгоценный секрет: её имя…»
Он его прошептал. Я его не расслышал.
«Повторите его мне, Анна.»
Она повторила неясными слогами, смутно дошедшими до меня, так что я не смог объединить их в одно слово, ибо нужно было слышать очень отчётливо, чтобы разобрать незнакомое имя собственное; другие части фразы дополняются, возникают в представлении, но это имя остаётся обособленным.
И он повторил, причём голос при воспоминаниях понижался, словно переходящий в вечер:
«Я вам признаюсь в этом, потому что вы тут. Если бы вы не были тут, я бы в этом признался неважно кому, лишь бы он обрёл спасение через меня.
*
Он добавил, таким размеренным и монотонным голосом, чтобы тот мог ему прослужить до конца:
«Я хочу признаться в другом, являющемся проступком и несчастьем…
— Вы не признались в этом проступке священнику? — спросила она.
— Я ему почти ничего не сказал», — довольствовался он ответом.
И он продолжил своим громким и таким спокойным голосом:
«Я сочинял стихи в течение нашей помолвки, поэмы о нас. Рукопись имела то же имя, что и она. Мы читали вместе эти стихи, и мы вдвоём любили их и восхищались ими. «Это прекрасно, это прекрасно!» — восклицала она, хлопая в ладоши, каждый раз, когда я знакомил её с новым стихотворением; и, когда мы бывали вместе, всегда на расстоянии нашей руки находилась эта рукопись, — самая прекрасная книга, которая когда-либо была написана, по нашему мнению. Она не хотела, чтобы эти стихи были опубликованы и извлечены из нашего личного употребления. Однажды, в саду, она открыто проявила передо мной свою волю: «Никогда! Никогда!» — восклицала она. Как маленькая упрямая и строптивая девочка, она повторяла это слово, создававшее для неё впечатление того, что она взрослая, в знак несогласия качая своей миленькой головкой, на которой взбивались её волосы.»
Голос мужчины стал одновременно более уверенным и более трепещущим, дополняя и оживляя несколько характерных моментов прежней истории.
«В другой раз, в оранжерее, когда с утра шёл дождь, долгий однообразный дождь, она мне сказала: «Филипп…» — Она мне говорила: «Филипп», как вы это мне говорите.»
Он остановился, удивлённый чересчур откровенной простотой фразы, которую он только что изрёк.
«Она мне сказала: «Знаете ли вы историю английского художника Россетти [37] Россетти (Rossetti), Данте Габриел (1828–1882) — английский живописец и поэт.
?» и она мне рассказала этот эпизод, который при чтении её глубоко взволновал: он обещал даме, которую любил, всегда оставлять ей рукопись книги, написанной для неё, а если она умрёт, положить эту книгу вместе с ней в гроб. Она умерла, и он на самом деле приказал захоронить эту книгу вместе с ней. Но потом, будучи увлечённым славой, он нарушил обещание и неприкосновенность могилы. «Вы мне оставите вашу книгу, если я умру раньше вас, и вы её не заберёте обратно, Филипп?», и я это обещал, смеясь, а она тоже смеялась.
«Я, медленно, вылечился от моей болезни. Когда я стал достаточно крепким, мне сообщили, что она умерла. Когда я смог выходить, меня привели на могилу, величественный монумент её рода, который где-то скрывал новый и небольшой гроб.
«Не стоит рассказывать о горестях моей скорби… Всё мне её напоминало. Я был полон ею, а её больше не было! Поскольку моя память ослабела, каждая деталь вызывала во мне воспоминание; мой траур был ужасным возобновлением моей любви. Вид рукописи вызвал во мне воспоминание об обещании. Я положил её в шкатулку, не перечитывая, и однако я её больше не узнавал, стёртую в сознании выздоровлением. Я добился, чтобы подняли плиту и открыли гроб, вложив в него книгу, в соответствии с желанием умершей. Один служитель, который при этом присутствовал, пришёл мне сказать: «Она была помещена между её ладоней.»
Читать дальше