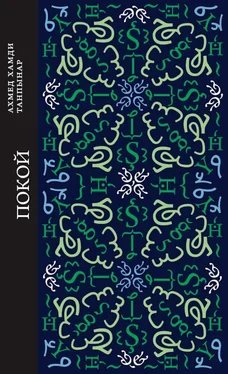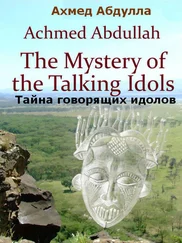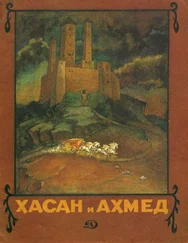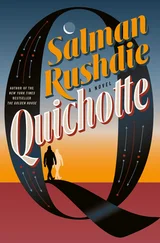Он дошел до Эминёню, не соображая, что делает, торопливо перескакивая от одной беспорядочной мысли к другой. Если сейчас ему удастся сесть на пароход, он поедет на Босфор. Уже месяц он не ночевал дома. Ему живо представился тот дом на окраинах Эмиргяна, с его закрытым садом, напоминающим дворы старых медресе, с балконом, с которого открывался вид на Кандилли и Бейкоз. Днем сад наполнялся солнцем, жужжанием пчел и жуков. Там было одно фруктовое дерево, один орех, а перед дверью — каштан и по углам — несметное множество цветов с неизвестными названиями; садовая дверь вела в узкий застекленный коридор, который в свое время был лимонной оранжереей. Затем следовал внутренний дворик, летом хранивший прохладу. Здесь стоял широкий обеденный стол, маленький шкаф для напитков, большой седир [55] Седир — разновидность восточной мебели, низкая тахта по периметру комнаты.
. Лестница была широкой. Они сиживали здесь с Нуран, бросив на пол по подушке. Но молодая женщина больше любила верхний этаж, его большой балкон, диван, с которого открывался роскошный вид на пролив до самого Бейкоза. Теперь он старался удалить из памяти дни, которые невозможно вернуть. Не было никакой необходимости думать о них теперь. Ихсан болел; его внутреннее смятение, эта невидимая бесцветная масса приобрела реальные очертания.
Она стала болезнью Ихсана, он теперь разговаривал ее языком и сквозь призму ее мук. Она, как осьминог, вытянула свои бесконечные щупальца и объяла собой все. Она была внутри и снаружи. Так должно было продолжаться до тех пор, пока он не окажется рядом с братом. До тех пор, пока он не возьмет его руки в свои и не спросит: «Как ты, братец?» — до тех пор, пока они не посмотрят в глаза друг другу; и тогда все изменится, он вернется в те времена, когда была Нуран. А затем начнется мир расставания; мир человека, которому все чуждо, который навечно в чужом краю, мир мужчины без женщины, у которого от одиночества ноет позвоночник. Тот мир состоял из огромной, разрывающей нутро пустоты. И так бывало всегда, он уже давно переходил из одного мира в другой, словно из комнаты в комнату.
Однако та, кого вернуть было невозможно, совершенно не собиралась его оставлять. Сейчас Нуран явилась перед ним в образе двух молодых девушек. Волнуясь, с трудом переводя дыхание, они застыли перед ним: одна в платье из красного набивного шелка с оборками и тюлем, другая в желтом платье с глубоким вырезом, который казался небрежным из-за единственной пуговицы, с виду ничего не державшей, и от этого возникало впечатление, что платье надето мгновение назад, второпях:
— Ох, Мюмтаз, как хорошо, что мы тебя встретили!
— Ну куда же ты пропал, дорогой? Тебя не видно, не слышно!
Обе были довольны случайной встречей:
— Нам нужно столько всего тебе рассказать…
Двоюродная сестра Нуран по отцу, Иджляль, попыталась сменить тему разговора, но никакая сила небесная не смогла помешать Муаззез сообщить Мюмтазу все, о чем она знала.
Иджляль сознавала, что молоденькая подруга заговорит именно об этом просто потому, что ей представился удобный случай; правда, та явно не знала, с чего начать разговор. Очаровательное создание, которое не умело скрывать ничего из того, что узнало (Мюмтаз, несмотря ни на что, находил ее симпатичной), впервые за всю свою короткую жизнь она собиралась поведать новости такого рода, к тому же не только рассказать то самое, о чем хотелось бы рассказать давно, но и, наконец, впервые за много лет, отомстить. При этом Муаззез желала сохранить непринужденный тон беседы; но было и еще кое-что: ей хотелось поведать новости так, чтобы Мюмтаз, несмотря на всю свою бестолковость («О Господи, какой же он дурень и как она могла любить такого?»), сразу бы понял, что она его любит и тотчас готова его утешать. Но ей в голову не приходило совершенно ничего, ни одной мысли, как начать разговор. Она только смотрела на Мюмтаза и слегка улыбалась.
— Ну давай, говори, что случилось? — спросил Мюмтаз, улыбнувшись в ответ.
По правде, в этой девушке было нечто очень ему симпатичное. Она была жестокой, взбалмошной, эгоистичной, неразумной, но необычайно красивой. Она была сладкой и привлекательной, как фрукт. Совершенно не нужно было заставлять себя симпатизировать ей, любить ее, желать. Достаточно было притянуть к себе ее лицо в обрамлении постоянно менявших форму волнистых каштановых волос, чтобы, целуя сияние ее бриллиантовой улыбки, запечатать ей рот поцелуями. Миг, светлый и сладкий, похожий на прыжок в наполненный светом колодец. Думать о ком-то, кроме нее, было бессмысленно, как искать горизонт. Она начиналась в самой себе, но на самой себе и заканчивалась. До такой степени, что кто-то, поразмыслив над тем, что именно она внушала, вполне мог бы решить отказаться от нее и продолжить свой путь без нее. «По крайней мере, для меня это так…»
Читать дальше