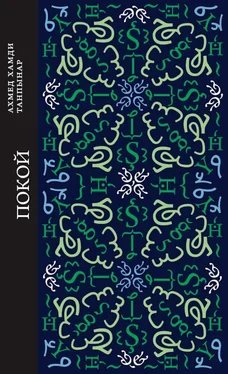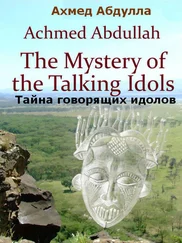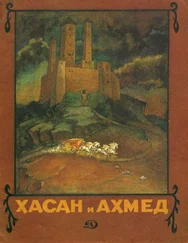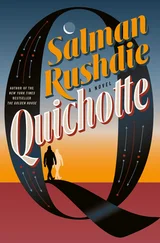— Я писал Нуран письмо, ты знаешь об этом? Любовное письмо!
Мюмтаз, не ожидавший такой молниеносной атаки, растерялся и пробормотал:
— Я знаю. Она мне показывала. Разве ты не знал, что мы собираемся пожениться?
— Я знаю, что вы спите.
— И что с того?
— Ничего. Это был один из моих бесцельных поступков. Может, я месяцами не вспоминал о Нуран и вспомнил о ней только за полчаса до того, как написал письмо.
Спокойным голосом, будто речь шла о том, что его совершенно не касалось, Мюмтаз ответил:
— Правда, это не самый хороший поступок по отношению ко мне, твоему старинному приятелю.
В эту минуту их взгляды встретились. На лице Суата была скорбная улыбка.
— Ты не можешь понять, как иногда влияют на нас некоторые странные случайности. Возможно, ты никогда этого не сможешь понять. Потому что ты из тех, кто настойчиво стремится выполнить то, что он задумал, и ждет во что бы то ни стало продолжения и результата своих поступков. Поэтому ты во всем хочешь видеть логику. Случилось то, что случилось. Я не буду задерживать тебя понапрасну, я просто хотел, чтобы ты это знал. До свидания.
И он медленно зашагал вниз по спуску. Мюмтаз крикнул ему вслед:
— Все люди такие! Берегись обязательств.
— До свидания…
Суат торопливо шел вниз. Мюмтаз остался стоять на месте и какое-то время слушал гулкий отзвук его шагов, сопровождавшийся надрывным кашлем, казавшимся громче в ночи. Затем Мюмтаз медленно побрел домой. Он был рад, что избавился от тисков этой массивной и потной ладони. Почему-то Мюмтаза напугало, что этой странной ночью его рука оказалась в ладони Суата. Этот липкий пресс вселил в него страх за себя, проникавший до глубины души; может быть, именно поэтому он прятал от Суата глаза. Вспомнив об этом, он разозлился на себя; он испугался тяжелобольного человека. Однако ощущение того, что опасность миновала, было так сильно, что, подняв руку в темноте, он разглядывал ее, словно впервые увидел. Рука Суата, потная и горячая от лихорадки, словно бы содрала с кожи ладоней и пальцев Мюмтаза что-то очень сильное, что-то очень нужное ему самому и полное жизни и унесла с собой.
Он спросил сам себя:
— Почему Суат так страдает? Почему он такой жестокий?
Он повторил этот вопрос несколько раз. Он был в непонятном состоянии духа, которое не испытывал ни разу, по крайней мере, с тех пор, как знал Нуран. «Я на сто шагов опережаю его, а стою на этой дороге и весь дрожу», — рассердился он на себя. Все, кто составлял его мир, находились в его доме; однако в тот момент он не думал ни о Нуран, ни об Ихсане, ни о других гостях.
На вершине спуска он вновь остановился и огляделся по сторонам. Осенняя ночь сияла неизменным светом рассеянных фонарей, которые проникают в самое сердце человека, будто покрытая черным, блестящим стеклом. На противоположном берегу тусклые уличные огни, своей неподвижностью напоминавшие звезды, казалось, освещали не жизнь, которая их окружала, а свой звездный покой. Все словно бы застыло, все окружавшие Мюмтаза предметы, расплываясь, слились с редкими криками ночных птиц и с шорохом ветвей.
— А если он сказал правду?.. О Господи, а если он сказал правду? — От волнения Мюмтаз поднял голову и уставился на небосвод. Мириады звезд мерцали чистым светом на небе, темноту которого они еще больше подчеркивали, словно окна в доме больного, которые отражают надежду, муку, волнение.
Сам того не желая, он подумал: «Все никак не умрет…»
Его страдание было таким огромным, что ему хотелось куда-то сбежать, где-то спрятаться. Но куда он мог сбежать? Нигде в этой темной ночи, нагруженной караванами света вечности, не было ни одной трещины, ни одного тонкого места, куда могла бы проникнуть человеческая душа. Ночь своей густотой залила все вокруг, отрицая все сущее, не признавая ничего, словно была одушевленным существом, животным, грубый панцирь которого инкрустирован огромными самоцветами. Где-то раздался шорох, засветился уголок горизонта. Тяжелая и грубая ночь, словно большая темно-синяя с золотыми проблесками птица, казалось, проскользнула у него над головой. Однако в ее крыльях ощущалась твердость.
— Унеси меня с собой…
В любое другое время Мюмтаз в этой ночи, которая внушала впечатление, что она из чистых драгоценностей, что она из благородных, ничем не запятнанных, металлов, что она из черного мрамора и гранита, нашел бы самую светлую сторону своего мира наслаждения и поэзии. Однако сейчас страдание было слишком сильным, и весь мир поэзии закрылся от него. Теперь он испытывал только огромный страх.
Читать дальше