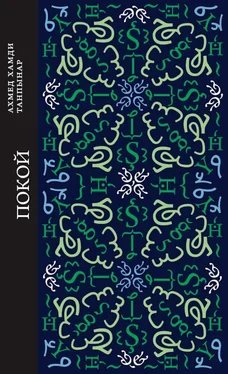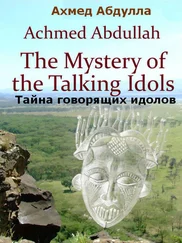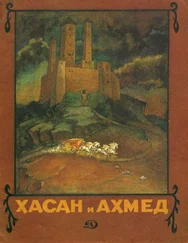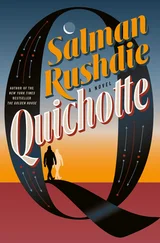— Сегодня вечером я должен написать ей письмо, — и он вновь и вновь обдумывал фразы этого письма, вперив глаза в потолок, с напряженным от лихорадки лицом и вздымающейся от хрипа грудью.
Мюмтаз слушал рассказ этой молодой женщины и в то же время повторял:
— Отвратительно… Отвратительно…
Все было омерзительным. Между людьми ничего не могло быть чистого, спокойного. Человек был врагом счастья. Где бы он ни увидел его, где бы ни почувствовал, сразу старался на него наброситься. Мюмтаз вышел из дома с чувством брезгливости. Он быстро зашагал прочь. Голос молодой женщины продолжал звучать у него в ушах, жалуясь на судьбу:
— Он сам погубил себя! Мне так его жаль, Маджиде… Знала бы ты, как мне его жаль… Такова моя участь.
Все было отвратительно. Эта жалость, это осознание судьбы также было отвратительным. Эта привязанность, эти жалобы тоже были мерзкими. То, что Суат ворвался в их жизнь, как внезапный камень, брошенный в окно, то, что написал Нуран то письмо, то, что он думал об этом больном человеке, словно его, Мюмтаза, жизнь была неотделима от жизни больного Суата — все это было отвратительным.
— Маджиде, знала бы ты, что я вытерпела! Ты только подумай… Вот уже девять лет…
«Вся моя жизнь прошла вдали от тебя, в попытках сохранить равновесие. Но я никогда не преуспевал в этом… Ты ведь позвонишь мне, правда? Мне так нужна твоя защита…»
— Месяцами он не смотрит на детей. Мне ничего другого не нужно, лишь бы с ним все было в порядке!
Это было ужасно. Он видел жизнь одного человека с противоположных точек зрения; со стороны Нуран и со стороны родственницы Маджиде. Этот двойственный взгляд должен был уничтожить Суата, стереть его. Однако Суат жил. Он в горячке смотрел на тела молодых санитарок, входивших и выходивших из его палаты, когда ему становилось лучше, то, чтобы завязать дружбу, он улыбался молодкам, старался коснуться их рук, их лица, разговаривал с ними как бы свысока, желая поведать им только то, что могло стать предметом мужской гордости, задавал им вопросы по работе, шутил над ними многозначительно и, подняв брови, слушал их ответы. На другой день ему, возможно, предстояло, вместе с улучшением своего состояния, получить нагоняй от какой-то из медсестер, а может быть, даже и пощечину в каком-нибудь укромном уголке. Но все это будет втайне, и, когда им попадутся доктора, он обязательно будет ожидать, что такая медсестра непременно обратится к нему «бей-эфенди», и он будет самым громким голосом рассуждать обо всем, что касается политики, прав человека, общественной морали.
«Уже девять лет…» Суат уже девять лет с яростным аппетитом, усиленным его болезнью, бросался на все, что было рядом; думал о молодых и свежих телах, искал зрелых женщин и, словно бы составляя в уме запутанные расчеты какого-либо туннеля или железной дороги, прикидывал возможности любовных свиданий, говоря: «С этой женщиной ничего не получается, а вот с той получится». Или: «Здесь нужно терпение, а с другой нужно обращаться только по-дружески»; или искал возможность потанцевать с очередной пассией на вечеринке, а затем уединиться с ней где-то в комнате, в доме, подальше от гостей.
Да, Суат жил в больничной палате, в своей собственной голове, в распухших глазах своей жены, в тоненьких шейках своих детей, он жил во всех своих отношениях с женщинами, не пропуская ни одной юбки, и безжалостно сминал их жизнь, словно немытыми липкими руками, размазывая пальцами грязь, лазил в темной комнате, в полном чистого белья шкафу. Настоящей бедой был именно этот Суат, Суат, которого он давно и хорошо знал.
Мюмтаз шагал под дождем, не понимая, куда идет. То и дело небо слегка прояснялось, и на улице, даже на черепицах крыш все начинало светиться, и свет, пробивавшийся между облаками, проходя сквозь них, создавал жемчужный сон из короткой жизни капель, дрожащих на проводах, на листьях остриженных под мальчиков саженцев, привезенных для посадки муниципалитетом; абсолютно всё и вся умывалось этими каплями, испытывая чистую наивную радость. Затем ливень начинался вновь; мальчишки, накрыв куртками головы, разбегались; взрослые прятались то здесь, то там; и все стиралось — и улицы, и дома. Все покрывала черная мутная завеса, похожая на пепельную грязь. Все было в плену у дождя. Дождь хлестал все вокруг большими, размашистыми каплями, извлекал из крыш трамваев, деревянных стенок полицейских будок, деревянных и черепичных крыш домов звуки, напоминавшие аккорды музыки, звучащие на огромном органе или клавесине; то и дело вспыхивала молния, и темная жидкая грязь внезапно освещалась каким-то иным светом, а затем вновь спускалась тонкая водяная сеть.
Читать дальше