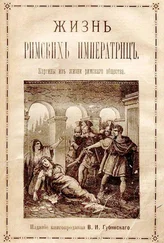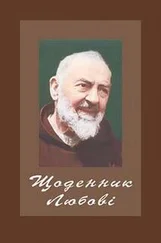— Почему же нельзя?
— Разве может кто–нибудь жить, не строя никаких предположений и не рискуя вместе с тем обмануться в своих надеждах на некий высший общественный синтез? Это невозможно. Чтобы жить, необходима какая–нибудь ложь. Республика, анархия, социализм, религия, любовь… все, что угодно, лишь бы обмануть себя. На почве фактов тоже нет надежного решения. Допустим, что наступит анархия — а она никогда не наступит, потому что не может наступить, но допустим все–таки, что она наступит, и за нею последует мирный и справедливый раздел земли, и это распределение не вызовет ни конфликтов, ни борьбы… После какого–то периода интенсивного использования земли, сбора богатых урожаев снова возникнет проблема добычи средств существования, и борьба за жизнь развернется с новой силой, причем в условиях куда более ужасных, чем нынешние.
— Но ведь есть же какие–нибудь лекарства?
— Никаких. Лекарство — в самой борьбе, лекарство — в том, чтобы обществом управляли естественные законы конкуренции. В общем, по известной кастильской пословице: «Бог посылает, святой Петр благословляет». Для этого самое лучшее было бы устранить все препятствия: отменить право наследования, отменить протекционизм в торговле, отменить ограничительные тарифы, уничтожить всякую регламентацию в вопросах семьи и брака, отменить регламентацию в вопросах труда, упразднить государственную религию и предоставить свободной конкуренции управлять всем.
— А что же будет со слабыми? — спросил Мануэль.
— Слабых определят в приюты, чтобы они никому не мешали, а если это невозможно — пусть себе умирают.
— Но это жестоко.
— Это жестоко, но естественно. Для самоутверждения расы необходимо, чтобы умерло большое число индивидов.
— А что сделают с преступниками?
— Их уничтожат.
— Это совсем дико. Вы слишком жестоки, вы законченный пессимист.
— Нет. Все, что говорится о пессимизме и оптимизме, не более чем пустые надуманные формулы. Кто может сказать, чего больше примешано к нашей жизни — горестей или радостей? Этого никто не может высчитать да это и не так уж важно. Поверьте мне, в сущности, есть только одно лекарство, и оно предназначается для индивидуального пользования: деятельность. Все животные — а человек является одним из них — находятся в состоянии непрерывной борьбы: свою пищу, свою жену, свою славу тебе приходится оспаривать у других, а они оспаривают все это у тебя. Раз борьба — закон нашей жизни, примем ее, но не с печалью, а с радостью. В деятельности заключено все: и жизнь и наслаждение. Превратить статичную жизнь в деятельную, динамичную — вот в чем задача. Вечно бороться, бороться до последнего вздоха! Вы спросите, за что? Да не все ли равно, за что.
— Но ведь не все доросли до понимания необходимости бороться, — возразил Мануэль.
— Внешние поводы, побуждающие бороться, — это не самое главное. Действительна лишь борьба внутри самого человека. Главное — привести в действие волю, энергию, пробудить инстинкт бойца, который есть у каждого.
— По правде говоря, я не ощущаю в себе этих качеств.
— Это понятно, потому что твои инстинкты основываются на чувстве сострадания к ближнему. Не правда ли? И нет в тебе того неуемного эгоизма… В общем, ты конченный человек.
Мануэль рассмеялся. По коридору прошел Хуан.
— Парень совсем плох, — сказал Роберт. — Ему бы надо уехать из Мадрида куда–нибудь в деревню.
— Он не хочет.
— Он много теперь работает?
— Нет. Занимается только анархистскими делами и совсем ничего не делает.
— Жаль.
Роберт встал и ласково попрощался с Сальвадорой.
— Поверьте, я очень завидую Мануэлю, — сказал он.
Сальвадора улыбнулась.
Мануэль проводил Роберта до двери.
— Знаешь, кто меня преследует буквально каждый день?
— Кто?
— Сеньор Бонифасьо Минготе. Мне кажется, ты его знаешь.
— Да.
— Он наговорил мне кучу всяких гадостей о матери Кэт, не зная, кто я. Представляешь! Я дал ему понять, что мне все это порядком надоело, и теперь он забрасывает меня письмами, которые я даже не читаю.
— А что с ним теперь, как он?
— Кажется, живет с какой–то женщиной, которая поколачивает его и заставляет заниматься дома хозяйством.
— А ведь был таким покорителем сердец!
— Да, странно. Всяко бывает. Теперь его самого покорили.
— Послушай–ка, — сказал Роберт, останавливаясь на лестнице, — я хотел кое–что сказать тебе.
— Да, пожалуйста.
— Видишь ли, я теперь не знаю, когда снова вернусь в Испанию. Возможно, долго не приеду. Понимаешь? Да. Я говорил о тебе с женой и с тещей, рассказывал им о твоей жизни, тщательно нарисовал портрет Сальвадоры, и они очень порадовались, что у тебя все хорошо. И они обе сказали мне, чтобы в знак их дружеского расположения к тебе ты оставил бы за собой типографию.
Читать дальше