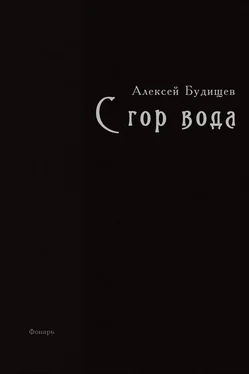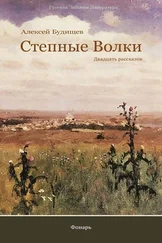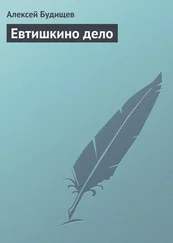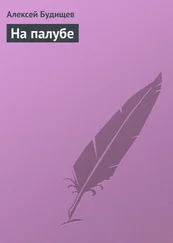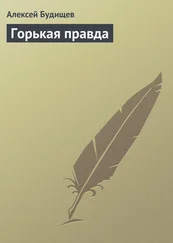И защеголял с тех пор Глебушка по усадьбе в своем новом, не совсем заурядном костюме. К костюму, впрочем, он отнесся совсем безразлично, а свиданиям с ветлами обрадовался до слез. Через несколько месяцев, однако, Яков Петрович дважды было попробовал пригласить для сына домашнего учителя. Но первый оказался пьяницей, а второй — лицом политически-неблагонадежным. Искать же третьего вдруг показалось делом до невозможности суматошным и скучным. Присев уже к столу, чтобы составить газетное объявление, и даже начертав первую строку: «Требуется дом. учитель», Яков Петрович позвал в кабинет сына.
— Ты корову через ять не напишешь? — спросил он его.
— Корова — в обоих случаях о, — сказал Глебушка, застенчиво потупляясь.
Яков Петрович о чем-то на минутку задумался, почесывая нос. А потом благодушно рассмеялся.
— В Бога ты веруешь, — сказал он, — водку пить, конечно, научишься. Ну, чем будешь не дворянин? Бог с ними, с учителями!
И зачеркнул написанное.
Встряхиваясь от воспоминаний, Глебушка зашевелился в фаэтоне, поправил на голове белую шапочку. Дорога уже давно шла ржаными полями. Ласкаясь к приветливому ветерку, выгибали зеленую спину поля и смыкались с малиновыми облаками на горизонте. Показались дубки, шесть одиноких дубков в поле, приткнувшихся на самом пути, как калики. Парфен сказал:
— Сколько лет я знаю эти дубки. Совсем не растут они.
— Отчего? — спросил Глебушка, широко раскрывая темные, отуманенные глаза.
Любил он дорожные разговоры с Парфеном.
— Должно быть, несладко дереву без лесного духа расти, и человек в одиночестве хилеет ведь, — сказал Парфен и осадил вороных на мелкую трусцу, давая им роздых.
«Бедные», — подумал о дубках Глебушка и с теплым участием внимательно оглядел их.
Какая-то птица неразборчиво крикнула из-под дубков, точно бросила приветствие.
— От одного пчелинца я слышал, — заговорил опять Парфен, — от старого пчелинца, который всю свою жизнь в лесу прожил. Встречается в лесу ранней весной, перед травяным ростом, птица такая; и говорит эта птица, почитай, человеческою речью, но только все одно и то же: «Бросай сани, чини воз». Беспременно эта птица человеком раньше была и извозом промышляла. Вы как думаете?
Где-то сбоку неожиданно обрушился ветер, словно бросился в открытую дверь, перевернул гривы у лошадей, и понес над дорогой мутно-рыжее облако пыли. Очнулось сразу все поле, широкое, живое, многоцветное и многоязычное, и наполнилось все сверху донизу протяжными шелестами, вздохами и причитаниями.
Глебушка вдруг густо покраснел. Было у него и еще одно воспоминание, связанное с бархатистой лощинкой и старыми ветлами, но от этого воспоминания холодели у него руки и тьмою обволакивалось сердце.
Крепко закрыл перед ним свои глаза Глебушка. Покосившись на него с козел, подумал Парфен:
«Неужели задремал барчук?»
II
Мелководная, но сердитая речонка Шалая, впадая в реку Сургут, нарыла с давних лет глубокие омута у левого берега Сургута, и эти-то омута, собственно, и назывались Черною тонью, а от них получил то же самое название и весь зеленый мысок, омываемый Сургутом и Шалой.
Узким зеленым клином лежала Черная тонь между двух речек, и Сургут плавно и лениво нес свои воды, а Шалая сердито шипела на месте впадения и злобно грызла суглинистый и крепкий берег Сургута. На берегу Сургута росли пахучая черемуха, ольха и вяз, вздымаясь степенными большими и крепкими деревьями, а на берегах Шалой кое-где топырился колючий шиповник, да попадался вислоухий, злющий-презлющий хрен. В Шалой водились только ерш да сука, — рыба совсем несъедобная, скользкая, проворная и кусающаяся, похожая на молодого змееныша. А из омутов Сургута вылавливали двухпудовых сомов, большеголовых, усатых, с крошечными свиными глазками, белотелых, тяжелых сазанов и широких, легких на прыжок, лещей. И еще болтали крестьяне, что лежит в этих глубоких омутах Черной тони, на илистом дне, насквозь просмоленный бочонок с золотом, весом свыше десяти пудов.
Рассказывали, что в стародавние времена, когда Пугачев шел из Саратова на Пензу, опустил он будто бы, здесь на железной цепи этот бочонок с золотом, награбленным по господским усадьбам, а затем приковал цепь к дубовой свае, вбитой в воду и прикрытой вместе с цепью диким каменником. Но, будто бы, из злобы, чтобы никому не достался тот клад, Шалая подмыла сваю и сбросила ее в омут, подлая. И теперь, ликуя, шипит у Сургута, вся в белой пене от злости. Старые матерые рыбаки, которые уже сами стали пахнуть рыбой, передавали еще, что лучшие нырки из деревни Русские Горки приезжали сюда и пробовали опускаться в омут, чтобы хоть одним глазком взглянуть на заклятый клад, но до дна не доходил ни один, не одолев глубины, и только некоторые слышали, как звенит вода о железные звенья цепи.
Читать дальше