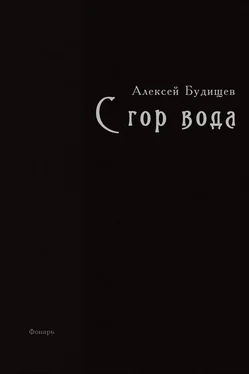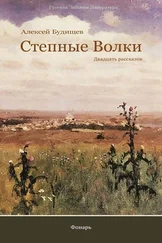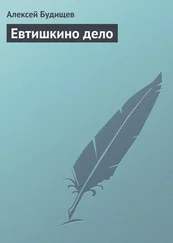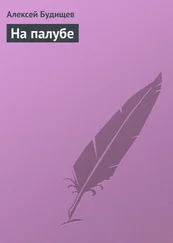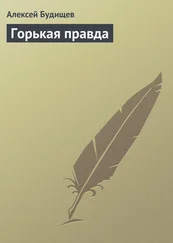— Непременно, папа, сегодня же! — воскликнул Глебушка, которого вдруг сильно взманила эта поездка. У него даже матово зарумянились щеки.
— Только примите во внимание, — заметил становой, — вам, может быть, придется там заночевать. Этот борисовский арендатор любит гадать чуть ли не в полночь, а подъем и спуск за дубками преотвратительны!
Семичрев точно дремал в кресле, и ниже колен свешивался его огромный круглый живот. Очевидно, он уже весь был занят перевариваньем завтрака и не слушал станового. Тот, щелкая шпорами, стал прощаться.
После вечернего чая, когда солнце уже заглянуло в окна гостиной, весь день обыкновенно наслаждавшейся полной прохладой, кучер Парфен, красивый рыжебородый мужик в малиновой рубахе и темно-синей плисовой безрукавке, подал к крыльцу пару вороных в фаэтоне, со вкусом тпрукнул, подобрав вожжи, со вкусом разгладил бороду и приготовился ждать выхода отъезжавшего. Выбежавшая из дверей дома горничная сунула в угол фаэтона дорожную подушку и небольшой сак. А следом за ней вышел и Глебушка в белой суконной поддевке на голубой шелковой подкладке, в черных бархатных шароварах и в белой же шапочке с раструбами спереди и сзади, с остроконечным верхом, какие носили когда-то сокольничьи.
— За дубками при спуске осторожнее будь, — хрипло крикнул Парфену Яков Петрович тем жирно скрипучим голосом, каким всегда кричат толстяки, и выставил бурое лицо в окошко.
— Не извольте беспокоиться, — звонко и с достоинством ответил Парфен.
И еще круче подобрав вожжи, он со вкусом щелкнул языком, посылая пару.
Розовая, пухлая рука поспешно закрестила из окна экипаж. Мимо Глебушки мелькнули серые срубы амбаров, в дуплистых бревнах которых так любили гнездиться темно-синие шмели. В детстве с мальчиками-подпасками, которых всегда было много в усадьбе, он любил на Ильин день доставать их мед. Мелькнули раскидистые ветлы в неглубокой с бархатистыми берегами лощинке, — старые-престарые, но робкие ветлы, всегда испуганно бледневшее под надвигавшейся бурей, а в тихую погоду такие темно-зеленые, сочные и глянцовитые.
Как стал себя помнить Глебушка, всегда и бессменно в полуденный зной ставили под этими ветлами на стойло племенных баранов, и всегда тянуло оттуда по ветерку крепким, едковато-щекочущим запахом. Тут же, на одной из толстых веток, он, бывало, просиживал целыми часами, играя в Робинзона, засунув за свой пояс деревянный топорик и надев на голову сшитый из лопухов колпак.
— Пятница! Пятница! — кричал он иногда в такие минуты телячьему пастушку. — Бери скорее самострел и ко мне на помощь! Видишь, меня со всех сторон окружили бизоны!
И они оба начинали яростно отстреливаться от бизонов, позабыв обо всем на свете. А вечером Яков Петрович, возбужденно отдуваясь, грозил вихрастому Пятнице своей «буланкой», как звали все в усадьбе его красно-рыжую трость.
— Опять, негодник, телят в яровое запустил! У-y, я тебя!
В страшный день, когда в первый раз пришлось ехать в город в гимназию, к этим же ветлам ушел поплакать Глебушка, и, может быть, они были причиной того, что так плохо стал он учиться в гимназии. Слишком уж много насказали ему сказок старые и, видно, до самых краев наполнили ими его душу; некуда было упасть зерну гимназической науки. Со страхом встретился он с гимназией, да и гимназия приняла его люто. С первых же шагов прозвали его плаксой, конфетной мордочкой и Глафирочкой. Насмешливые второклассники, когда он был в первом классе, шумными ватагами являлись к ним в класс и, расшаркиваясь перед ним, с учтивостью в позах и издевкою в глазах, тараторили:
— Считаем долгом представиться вам, многоуважаемая Глафира Яковлевна. Правда ли, что вас переводят от нас в женскую гимназию классною дамой и учительницей рукоделия? Ах, до чего жаль лишиться вас!
И под этими насмешками веселых шалунов гимназия делалась для Глебушки еще страшнее, его учение все несноснее, а тоска по ветлам и родимым местам вырастала в нем до размера недуга. Когда он кое-как дополз, наконец, до третьего класса, и ему уже исполнилось пятнадцать лет, отец, сжалившись над ним, взял его из гимназии, сшил ему вот такой же точно костюм, в котором он так походил не то на сокольничего, не то на гридня, и привез к себе домой. И дома он его сперва, по своему обыкновению, с яростью тараща глаза и тяжело отдуваясь, распушил, называя идиотом и лежебоком, а потом со снисходительной улыбкой добавил:
— А впрочем, солдатчины тебе не отбывать, да и именья на твою жизнь хватит с избытком.
Читать дальше