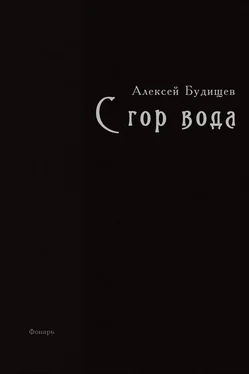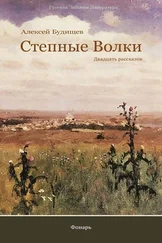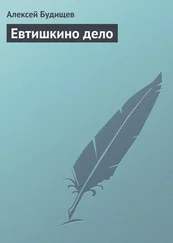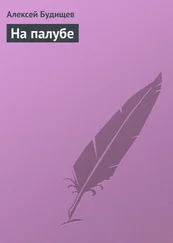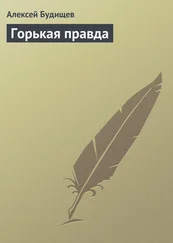— А я все это время скучаю!
— Что так? – спросил Адонин весело, с насмешливым огоньком в глазах,
— Привык к своему камердинеру, вы помните Григория? И теперь без него, как-то не по себе… скучно… – вздохнул Юхванцев.
— А разве вы его рассчитали? – так же весело спросил Адонин — Григория?
Морщинка на лице Юхванцева стала глубже. Он сказал:
— Пришлось. Он украл мой золотой портсигар и был заключен в тюрьму на три месяца…
Адонин вскочил со стула, и его лицо покрылось крупными розовыми пятнами.
— Он еще и теперь сидит в тюрьме? – спросил Адонин тихо, пресекающимся голосом.
Юхванцев покачал головой:
— Нет, он умер там, заразившись тифом.
Адонин опустился на стул, но опять встал на ноги. И долго не мог совладеть с языком. Сбивчиво, он приступил наконец к исповеди. И окончив ее, заходил из угла в угол по комнате. А Юхванцев все шевелил тонкими, как высохшие листья губами, сбирая в складки бескровную кожу лица. Потом позвонил двумя нажимами в кнопку звонка, вызывая своего личного секретаря.
Адонин все ходил взад и вперед по комнате, болтая руками как больной. Не изменяя позы и лица, чуть шевеля тонкими, будто мертвыми губами, Юхванцев сказал вошедшему секретарю в лиловом галстуке:
— Нужно вызвать по телефону следователя. Скажите, что необходимо снять допрос… у меня на квартире… с преступника…
I
У Якова Петровича Любавина, которого все окрестные дворяне за его непомерную толщину и такую же обжорливость звали Полтора-Якова или Семичревом, пропали из табуна сразу три молодых жеребчика, стоимостью не менее как по 200 рублей каждый. Пропажа сильно огорчила Якова Петровича; весь день он ходил туча-тучей, нещадно обругал старосту, раза два ткнул в загривок пастуха Савоську Кривого, а за ужином съел всего только пять битков с луком, два малосольных парниковых огурца да глубокую тарелку варенцов. Единственный сын Якова Петровича, Глебушка, восемнадцатилетний юноша, тонкий и хрупкий, как девушка, застенчивый, всегда грустный, с лицом писаного красавца, был тоже чрезвычайно огорчен пропажей, и на другой же день, рано утром, он, помимо отца, вызвал в усадьбу станового пристава. Отец его ни полиции, ни суда не признавал и за помощью к ним никогда не обращался.
Показывая обыкновенно на свой огромный, розовый, но рыхлый, как подушка, кулак, он говорил:
— Вот моя полиция.
И, показывая затем на другой и делая им такие движения, словно он таскает кого-то за волосы, он добавлял:
— А это моя юстиция. Люблю библейскую простоту во всем.
Становой пристав побаивался Семичрева, так как знал, что он имеет влияние даже на губернатора, и, надев мундир поновее, тотчас же явился в усадьбу, чисто выбритый, гладко причесанный и надушенный. За ранним, наскоро изготовленным завтраком все трое — Яков Петрович, становой пристав и Глебушка — говорили только о пропавших лошадях, и большие карие глаза Глебушки томно и матово светились, как у влюбленной девушки, а становой пристав почти каждую фразу заканчивал своей излюбленной поговоркой:
— Пятью пять — двадцать пять.
Впрочем, когда подали жареных цыплят и шампиньоны в сметане, Яков Петрович весь погрузился в еду; как всегда, он тяжко засопел и зачавкал так громко и восторженно, что становому, который в первый раз видел, как ест Семичрев, стоило немалого труда, чтобы удержаться от смеха. Схлебывая и пережевывая грибки, Яков Петрович производил языком, губами и всем ртом такие же точно звуки, как собака, неистово вычесывающая блох.
За чаем с коньяком, который подали уже на балкон, становой пристав вдруг сказал Якову Петровичу:
— А раз вам так не хочется прибегать к услугам полиции, попробуйте съездить на Черную тонь, к новому борисовскому арендатору. Говорят, он великолепно гадает именно о пропавших лошадях. Находят, говорят, по его указаниям. Крестьяне им не нахвалятся. Пятью пять — двадцать пять!..
Еще не отдохнув от еды и угрюмо сопя, Яков Петрович спросил:
— Чего двадцать пять? За гаданье он берет столько?
— Нет, это у меня поговорка такая, — сказал становой, — а за гаданье он берет с крестьян десять рублей, кажется.
Глебушка глядел на отца своими прекрасными грустными глазами и думал:
«Стоит ехать на Черную тонь, или не стоит?»
Он никогда ни в чем не любил проявлять своей воли, и ему нравилось, чтоб ему подсказывали его желания.
— Что же, Глебчик, съезди, пожалуй, туда сегодня же, — сказал Яков Петрович, — на эту Черную тонь.
Читать дальше